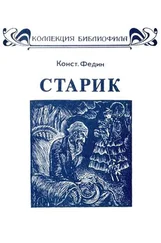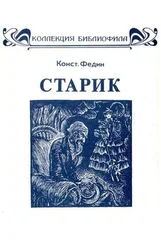Хорошо Анне Тимофевне с просвирнею, даже в дрему клонит и вьюшки в трубе как будто звенеть перестали.
А не успела она, на мороз выскочив, за гостьей калитку запереть, как простонали мерзлые ворота от ударов яростных, и закрутила вьюга хриплый голос хозяина:
– Гря-дет в полу-у-у-унощи!..
Кинулась Анна Тимофевна с крыльца назад к калитке, подхватила под руку мужа, а он перекатывается через сугробы – сам, как сугроб – весь в снегу, оледянелый, жесткий. А у жаркого шестка, не поддаваясь торопливым рукам жены и следя расписными валенками по полу, не водой становился снежный сугроб, а водкой – завоняла кухня трактиром с напитками. И вязло в спиртной вони охриплое лопотанье:
– Недостоин же паки его же обрящет унывающе!.. Пойми, ты, недостойна паки!.. Говори, отвечай мужу, почему унывающе? Бди, бди, говорю тебе!..
Вот-вот подавится Роман Яковлев кадыком своим, – глотает слюни после каждого слова, но не переглотать всех – брызжет мягкий рот, как дырявый желоб в оттепель.
Рассыпал на столе вяземские пряники – в пакете принес от купца знакомого – водит волосатой рукой по липким сладостям, угощает:
– Почему не ешь? Ешь, говорю тебе, лопай! Я для тебя старался: три фунта сожрал – три фунта выспорил. На спор жрал, вот! Может, ради тебя сподобиться мог, а ты не ешь?..
Рыжий весь Роман, веснушчатый, мохны торчат, ощетинились, похоже лицо его на груду пряников вяземских – пятнасто-желтое, клейкое, а в голосе нет-нет прозвенит что-то, как вьюшка, в трубе дребезжащая.
– Лопай, а не то выгоню как есть за ворота!..
Тихая сидит против мужа Анна Тимофевна, в белой руке дрожит, рассыпается колода в тридцать два листика, слышится ей голос просвирни:
– Крести кругом, одни крести…
И чуть внятно губами белыми шепчет, а то просит взглядом глаз одних испуганных:
– Ромочка, ты бы лег…
Торопится вьюга завалить до рассвета снеговыми горами крыльца да подворотни, кряхтят, сопят на морозе тесовые лачуги, торкаются ставни в мерзлые оконца, будто путники, бураном настигнутые, о ночлеге молят. И как ни хоронись от крещенских ветров заречных, как ни затыкай щели да трещины паклей пухлою – выдует за ночь тепло горничное, скует стекла ледяными узорами.
Зябко в комнатах соборного псаломщика, от пурги крещенской зябко, да от хозяина, как пурга буйного.
Не успела Анна Тимофевна в постели отогреться, как сорвал с нее Роман одеяло, завопил оголтело, неистово:
– Под одеялом слезу точить будешь? На мужа беду наговаривать?
Кулак у Романа волосатый, в узлах весь, словно корневище, – вот-вот опустится на Анну Тимофевну. Сжалась она вся, собралась под белой рубашкою, руками живот заслоняет, а руки дрожат, и крик отчаянный тоже дрожит пронзительно:
– Ребенок, ребенок!
– Девчонку родить собираешься? Говори, девчонку? Мне надо род свой продолжить, древо свое родовое!.. А ты норовишь назло… У меня дед поп, отец – поп, у меня весь род – духовенство! А ты кто? Я тебя в люди вывел, в сословие! А ты что?
И так за полночь.
А наутро утихомирилась пурга заречная, а с ней Роман. Куда озорство девалось – виновато круг жены увивается, развеселейшие говорит ей истории, из кожи лезет, рассмешить Анну Тимофевну.
– Приходит мне, Аночка, на ум: сделать бы такую комнату, все стены зеркальные, и потолок тоже, и пол. А потом пустить бы в эту комнату бегемота – посмотреть, что стал бы делать он?..
Насказав ворох историй любопытнейших, поев кислой капусты и расцеловав Аночку, забрал судок с вареной картошкой, да с ним в собор к обедне: пожевать там перед апостолом.
В церкви с левого клироса через северные врата видно, как молится у жертвенника протопоп соборный, отмахивает головой – кругляком лысым поклоны короткие. На лысине у протопопа играет зайчик, дразнит развеселого псаломщика.
Свернул Роман Иаковлев из клочка бумаги трубочку, нажевал вареной картошки, приладил трубочку ко рту, закрыл ладонью, чтобы не видели, кому не следует. Прицелился протопопу в лысину, дунул в трубочку. Полетел через врата северные комочек картошки жеваной протопресвитеру на голову.
Весело на клиросе, потешно…
А потом в гостях у подрядчика штукатурного расписывал Роман Иаковлев, как щупал ладонью протопоп свою лысину, задирал голову к потолку расписанному, подвигался у жертвенника то вправо, то влево, а после обедни говорил псаломщику:
– Развелась в алтаре у нас сырость смертная: в литургию окапала лысину мою плевотина непотребная!..
Гогочут штукатуры нутряным гоготом, любо тешит их псаломщик соборный развеселейший.
Читать дальше