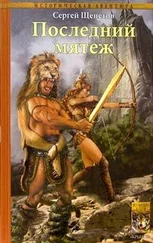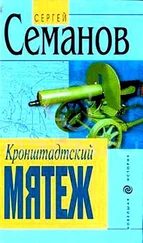- Алеша, Алеша! Что вы с ним сделали?
Ее тело было тяжко, бескостно. Поддерживая сестру, Калабухов чувствовал, что он утопает, что этот белый свет, путающийся в светлых обоях игрушечной их зальцы, может захлестнуть его окончательно. Калабухова заражало полуобморочное состояние сестры. Это полуобморочное состояние сестры напрягало какие-то сосуды в мозгу и могло потопить мозг в бесконечной светлости.
Калабухов неловко перевернулся, с шумом передвинув волны крови в голове. Тогда на плечо навалилась голова чужая, и вот из этих, перехваченных объятьем, из сырости этих объятий, из этих, все его лицо омочивших, слез - нет ни силы, ни воли, ни способа вырваться.
Алексей Калабухов не мог забыть и не мог вполне припомнить, какую-то нелепую историю, аналогичную той ...аналогичную той... аналогичную..., что эту ему рассказывали, как о прочитанной в книжке по такому же поводу... ах, да, эта история... он мягко сполз с дивана и стал перед сестрой на колени.
- Не плачь, сестренка: лес рубят - щепки летят, - хрипло от неразмятости скрипнул ему его голос, и все сразу стало белее, нелепее, - забылась история, и стало неловко в игрушечной зальце.
Сестра взглянула на Калабухова в упор всем высохшим, твердым лицом.
Комната раскалялась с необычайной быстротой, с быстротой, бившей под шерстью красной черкески крови, с быстротой, с какой кровь поднималась к лицу, - и теперь уже ничто внутри Калабухова не сопротивляется тем глупым словам, которые он с ясно осознанною им необходимостью сейчас произнесет.
- Так ты даже не раскаиваешься?
Калабухов понял всю тяжесть упрека с точки зрения сестры, упреков на всю жизнь, которых он теперь еще не понимает и - горе ему, если поймет, а, главное, ему стало неприятно, что вместо тех утешений, которые он считал долгом произнести сестре, придется защищаться и даже убеждать, возобновив навыки последних революционных военных лет.
- В чем, Катя?
- Ты папу убил. Ты даже не сам убил папу, ты только войско послал...
- Катя! - Калабухов вскочил. - Катя, да сознаешь ли ты, что ты говоришь? Мне жалко только тебя и тебя живую (дальше мысль цеплялась за звучание слов: так пишутся стихи). Ты думаешь, я плачу и плакать буду? Я не успею плакать - и потому, что все равно мне, и потому, что все равно мне - я не успею (он с ненавистью заметил, что уже декламирует и вдруг укрепился в каком-то решении, которое, неизвестно когда, пришло ему в мысль и с этим пор стал он обосновывать его опытным путем: путем подымания своей головы прямо, точным голосом и грубостью). Я не успею. Теперь я знаю, в чем дело. Родная, Катюша, я давно разучился любить вас - тебя, папу, Елену (опять развертывалась декламация). Я люблю только какие-то движущиеся плоскости и выпуклости, геометрию, - города и алгебраические знаки, называемые населением, человечеством, классами. Гамелен это же самое, у Франса, называл нацией. Я знаю, что это неубедительно.
От последнего слова сестра разрыдалась: у нее нет брата. Он убежден, что она ничего не понимает:
- Неубедительно. Полюбить эти кровавые и живые отвлеченности - значит сделать роковым и смертельным каждый свой шаг. Катя, прости меня, пожалей своего брата. Ты это никогда не забывала (а она рыдала сильнее. Калабухов опять тяжело стал перед диваном на колени и видел дрожащие плечи). Пожалей, пожалей меня за то, что у меня гибельная для вас походка, для всех людей... Все - люди, все льют слезы. А меня, видевшего реки крови, только трогают и могут разжалобить океаны ее.
У сестры были сухие глаза. Сухие глаза встали рядом, встали против.
- Алексей, я не понимаю, что ты говоришь. Я никогда не пойму. Ты - не пуды кровяной колбасы. Из рек крови людей не делают, а отцовские капли на тебя пошли. Они родные.
От сложной мысли она обессилела и заплакала, колотясь лбом о подлокотник дивана сильнее: тупо и часто.
- Знаю, милая, и не чувствую. Я ничего не чувствую (как слова, однако, цепляются друг за дружку), я ничего не чувствую. Катя, уезжая сюда, я перед фронтом сифилитиков собственными руками из этого браунинга расстрелял человека, моего начальника штаба, когда уже знал, что отец тоже расстрелян. Это - кровь за кровь. Мне тогда казалась нужной эта роковая симметрия, а теперь чудовищно вспомнить.
Сестра вдруг встала, выпрямилась и прижалась к белым обоям.
- О, как я узнаю тебя, Алексей. Я ненавижу тебя, я слышу фальшь! Так рисоваться - стыдно.
- Катя, Катя!
- Уйди от меня! Уходи отсюда!
- Погоди, послушай!
Он, обнимая ее, плотно усадил на диван, потом, перехватив ее обе руки, растянул по спинке, как на кресте, и сжимая их, кричал:
Читать дальше