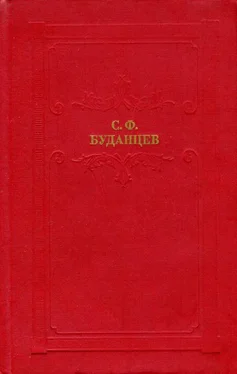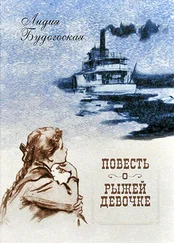Едва писательница проходила заводские ворота и вступала на эту ни на что в живой природе не похожую землю, растерянность и смятение сменяли обычную для нее задумчивость. Она стремилась уследить за каждым шагом, искала сигналов и предупреждений и почти утрачивала ту инстинктивную, бессознательную бдительность, которая, освобождая от заботы, куда ступить, как повернуться, оставляет в душе так много места для волнений и радости воспринимать и перерабатывать бытие. Писательница на мгновение останавливалась у контрольной будки, прощалась с ощущением солнца и степного зноя на лице. На коже еще держалась ароматная прилипчивая пыль — та самая, что подымется с дороги, посидит на чертополохе, потом еще на каких-то безымянных желтых цветах и, вновь вспугнутая, почти злым касаньем пройдется по векам, по лбу, по щекам.
Горожанка, жительница столицы, писательница пугалась завода больше, чем темного леса или дачной дороги в тот роковой час, когда возвращается домой предводимое тяжелым быком стадо. Ей и вообще порой казалось, что вся жизнь состоит из крупных и мелких страхов: ее пугали и прохожие оборванцы, и пьяные, и грызущиеся собаки, и сердитые гуси, и скорпионы и фаланги на юге. И все это — на фоне какого-то огромного, темного опасения захворать, потерять работоспособность. Она словно бы расплачивалась житейской тревогой и мнительностью за то, что обладала бесстрашием ума и воображения, а все эти противоречия и составляли в ней способность творчества и способность совершать поступки, которые ее близкие называли героическими и самоотверженными. А ведь иной раз, идя совершать свой героический поступок, она при переходе через трамвайную линию вдруг коченела от мысли, что на нее оборвется трамвайный провод, обвалится кусок карниза семиэтажного дома, потеряет управление и врежется в толпу на тротуаре автомобиль. И тогда весь поход превращался в такую муку, что она даже не замечала, как совершила свой героический поступок, узнавая об этом только по радостности и беззаботности, с какой возвращалась домой. Она по-детски ненавидела неосвещенные комнаты. Еле заметный порез, царапину, булавочный укол заливала йодом. Не верила аптекам и каждый раз, принимая новое лекарство, готовилась умереть жертвой чьей-то рассеянности и недосмотра. Зато в той вселенной, которую она выдумывала в своих книгах, действовали люди нечеловеческого мужества, а если уж и появлялся там человек нервный и утонченный, то такой нервной утонченности, с какой жить можно только в воображенном мире.
Заводская территория предъявляла к писательнице непосильные требования: не спотыкаться на кучах шлака, перелезать через груды железного лома, обходить телеги под мордами страшных лошадей в наглазниках, с похожими на громадные печати копытами, — такое животное, слыхала она, может с одного укуса раздробить ключицу.
Заводская территория поражала и страшила напряжением жизни в совершенно не приспособленной для жизни обстановке. Черная, упитанная маслами и выжженная кислотами земля, дыхание огня, зловонный дым, вопли гудков, котлы, которые еле сдерживают давление пара, грозная сила электричества, о которой предупреждают черепа в молниях, ремни трансмиссий, маховики… И под ремнями, под маховиками, между валками, у топок, у трансформаторов и масленников, среди рек расплавленного металла, в сдавленных пространствах, где больше опасностей, чем при штурме крепости в прошлые века, — как бы нехотя, но во всю мочь работают люди, без тени мысли об опасности покалечиться и погибнуть. Они улыбаются черными губами, ругаются, болтают, думают о своем.
Больше и прямее всего возбуждали в ней опасения подъемные краны, автокары, грузовики, паровозы — все, что возит и переносит, что ведет себя здесь как взбесившееся зверье, как глыбы камней при землетрясении. С каждым посещением завода ее мнительность возрастала. Любознательность и внимание, с какими она вникала в устройство предприятия, приносили ей новые страхи, но их преодолевала мысль о том, что не стоит жить без познания жизни. А как легко привыкала бы она к заводу в молодости! Вот еще одна черта старости.
При всем том писательница позволяла себе пугаться лишь безотчетно. Ведь если допустить до себя сознательный помысел об индустриальных опасностях, он может разрастись в протест, в возмущение ума. А тогда логика поведет дальше, тогда надо вступать во внутреннюю борьбу со всем движением страны, которую писательница горячо любила, с властью, которую она искренне и глубоко уважала, с господствующим мировоззрением, которое она от всей души хотела понять и принять.
Читать дальше