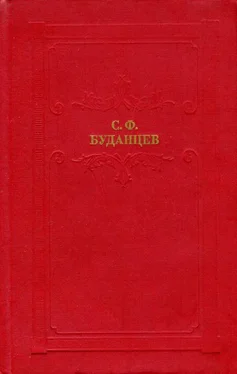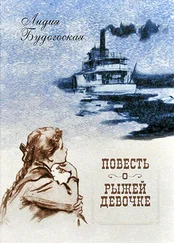Вылепив собственное подобие идеала, писательница разбиралась в том, что делается сейчас, куда меньше, площе и односторонне, чем могла бы это делать при своей врожденной и воспитанной душевной зрелости и вдумчивости. Она совершала добросовестные усилья, чтобы видеть и одновременно осмысливать виденное, — по законам другой перспективы, — берегла свою изысканность до того срока, когда ее вдруг «возжаждет общество», понимая исторический процесс таким образом: «Если пролетарию нравится, скажем, бефстроганов, то должен же он уважать и те социальные отношения, которые помогли человечеству изобрести это блюдо, и даже того представителя человечества, который дал кушанью свое имя».
Мы знаем эти интеллигентские умы, отвлеченные, схематические и неподвижные, представляющие себе революцию и всякое общественное движение только «лично», то есть в постоянной примерке к собственному, сложившемуся в годы вхождения в зрелость вкусу. В конечном счете именно сами они остаются внакладе, будучи не в состоянии согласовать поступь событий со своими желаниями, страстями, стремлениями, всем укладом личного быта. А так как поступь революции сильнее их частных порываний, то им ничего не остается, как считать доказанным, что жизнь непременно должна терзать всякого несогласованностью между личным и общественным. И, лелея такую мыслишку, они преждевременно дряхлеют, ибо что такое старость в общественном смысле, как не отставание от общего течения жизни?
Рабочие посмеивались над усатой, одутловатой старухой в шляпке и с записной книжкой: во все суется, обо всем расспрашивает, испугана, рассеяна, чуть не падает от автомобильного гудка, прижимается к стене, если рядом проходит по маневровым путям паровоз. Посмеивались и все же старались попадаться на глаза, дать толковый ответ, бросить лихое словечко, — авось опишет. Посмеивались, и никому не было дела до того, что творилось в этом старом, неловком, пугливом и потому самим собой тяготящемся теле. А ей-то дело было до всех! На всех поглядывали острые глазки, чуть грустно улыбались сухие, тонкие губы, а басовитый, придававший ей неожиданное самодовольство голос изрыгал острые суждения и заковыристые вопросы…
Писательница пересекла длинный, примыкавший к стене пустырь, разорвав при этом о моток толстой проволоки-катанки юбку, и приблизилась к длинному же, переломленному глаголем низкому строению, похожему на обветшалые таинственные здания внутри старых гостиных дворов или старинных таможен, где истлевали тюки вест-индских пряностей, юфти, китайских шелков, сушеных плодов — неприглядные драгоценности с запахом брожения и рогожи.
Писательница почему-то решила зайти с короткой стороны глаголя, где была расположена контора. Для этого надо было сделать крюк по засоренным закоулкам. Она медленно пробиралась вперед и остановилась у раскрытого окна, откуда в знойный воздух тянуло спертой прохладой и человеческим дыханием. Солнце жарило прямо в комнату, превращая покрытый белой, в фиолетовых пятнах бумагой стол в сияющую мраморную плиту. За столом в глубокой задумчивости сидел Павлушин, обернув лицо к свету от тех, кто был в комнате. Он как бы отпустил на волю руки — темные кулаки и ослепительно белые запястья. За его головой клубился пыльный мрак учреждения, в котором невидимый для писательницы счетовод звуками щелкающих костяшек тесал в щепу густую, спертую мглу.
Писательница стояла, всматриваясь. Лицо Павлушина озадачило ее. Большое, широкое, как всегда небритое, оно по-необычному потеряло свои твердые линии и выпуклости. Углы губ в щетине, которой солнечный блеск придавал рыжеватый оттенок, опустились. Глаза застыли в неопределенном поиске какой-то устойчивой точки, — причем для каждого глаза точка находилась в своем направлении, — и оба слегка косили, что еще горестнее подчеркивало их неподвижность. По щекам, возле крыльев носа, оставляя металлически блестящий след, ползли две слезы — уже скудные, но несомненные. Павлушин плакал. Неподвижный, невидящий, плакал.
В тот же вечер писательница на отдельных листках, заменявших ей дневник, сделала длинную запись. Работа памяти оставляет такие записи без всякого наполнения; в сущности, у каждого из людей их, написанных и ненаписанных, целые закрома. Но только переработка воображением художника дает им подлинную жизнь, и тогда вымысел, выдумка, выросшая из толчка воображения, содержит больше правды, то есть приближения к реальному переживанию, нежели правдиво-краткий протокол факта. Едва записав, писательница уже не знала, что случилось на самом деле и что она придумала.
Читать дальше