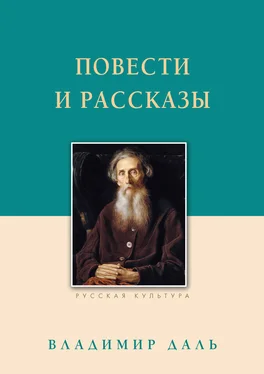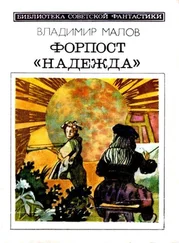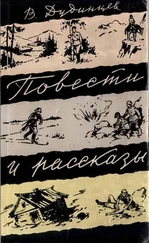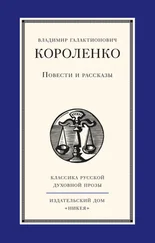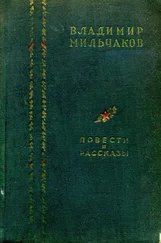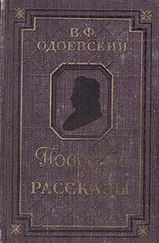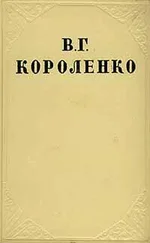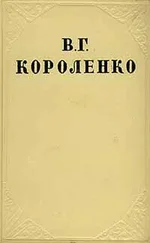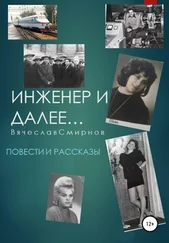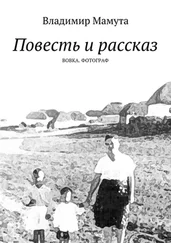1 ...7 8 9 11 12 13 ...44 Двойное название «Жизнь человека, или Прогулка по Невскому проспекту» сразу же создает метафору жизни как путешествия. Подобного рода метафоры вполне традиционны для литературы конца XVIII – начала XIX в. [22] Подробнее об этом см.: Строганов М.В. Человек в русской литературе первой половины XIX века. С. 17–21, 26–31.
Самые разные авторы широко применяли образы линейного эсхатологического времени для изображения общих закономерностей человеческой жизни: особенно часто образы реки, потока, и более редко – образы пути, дороги (например, «Телега жизни» А.С. Пушкина).
Жизнь человека, по Далю, – это путешествие, в данном случае – «прогулка». И все этапы жизненного пути главного героя повести отмечены перемещением его по Невскому проспекту: сперва он живет в самом конце его, постепенно и волею случая передвигается к самому началу, потом по случайности переезжает на противоположную сторону проспекта и к финалу своей жизни возвращается по этой противоположной стороне к тому же концу Невского проспекта, откуда и началась его жизнь.
В связи с образом жизни как путешествия Даль использует и такие традиционные для литературы начала XIX в. «этапные» показатели развития своего героя, как пятнадцатилетие и тридцатилетие [23] См. об этом: там же. С. 41, 93–97, 109–111; а также: Строганов М.В. Год рождения Грибоедова, или «полпути жизни» // А.С. Грибоедов. Материалы к биографии. Л.: Наука, 1989. С. 10–16.
. Бесплодное обучение героя у жестянщика прекращается в пятнадцать лет – возраст, когда заканчивается отрочество и наступает юность, готовность к самостоятельной жизни. Ровно пятнадцать лет Осип Иванович служит переписчиком в домашней конторе князя Трухина-Соломкина, пока не достигает он возраста тридцати лет. После смерти приемного отца и отъезда приемной матери в Германию Осип Иванович «нанял комнату у портного, занимавшего чердачок в первом или втором доме от Дворцовой площади, чем и заключил, так сказать, первую половину прогулки своей по Невскому проспекту, прошедши в тридцать лет всю правую сторону его, от монастыря до Дворцовой площади». Далее автор продолжает: «Итак, часть вторая: житье-бытье Осипа Ивановича во вторую половину жизни его, на пути от Дворцовой площади обратно до Невского монастыря, по левой, аристократической стороне проспекта».
Во второй половине жизни Осипа Ивановича внутренних датировок уже нет (что в принципе соответствует культурной и литературной традиции) до самого конца повести, где сказано, что, отпраздновав свои пятьдесят шестые именины (поскольку день рождения героя был неизвестен), герой вскоре скончался. Вообще, согласно традиции, полных лет человека должно числиться семьдесят. Осип Иванович, таким образом, не доживает до этого времени, не выполняет положенного общего круга жизни. Но следует также заметить, что вторая половина жизни героя к тому же укорочена в сравнении с первой (двадцать шесть лет против либо «традиционалистских» сорока, либо календарных тридцати). Причины этого Даль просто не пытается объяснить; нам, следовательно, также придется оставить их безо всякой попытки интерпретации.
Вместо привычного для литературы собственно линейного движения из одной точки в другую Даль рисует в повести нечто подобное циклическому движению: герой появился на свет около монастыря (Александро-Невской лавры), к монастырю он вернулся в конце жизни, в монастыре он и похоронен. Вообще литература начала XIX в. знала и широко применяла циклические образы для изображения человеческой жизни. Но они имели всегда природоморфный характер: молодость уподобляется весне, утру; зрелость – полудню, лету; старость – осени, закату. Все это вполне привычные метафоры, многие из которых превратились в потерявшие былую образность речевые штампы [24] См.: Строганов М.В. Человек в русской литературе первой половины XIX века. С. 8—17.
. Вот как это выглядит в повести: «Восхождение Осипа Ивановича на правой стороне Невского проспекта представляет нам восход светила – рост и мужалось нашего героя; тут следует, по общим законам природы, временное стояние на одной и той же точке – и наконец нисхождение по левой стороне того же пространства, закат».
Даль соединяет линейный путь и циклическое движение: человек у него движется не по кругу, но вперед и назад.
В этом, конечно, состоит специфика его применения традиционных для литературы образов, но эта специфика не ощущается на фоне новых принципов изображения человека, которые разрабатывала литература 1840-х гг.
Читать дальше