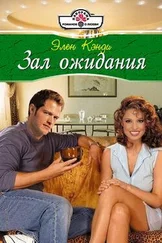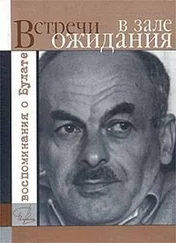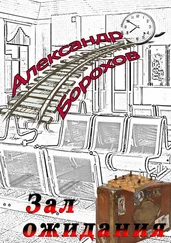Так я познакомился с отцом... Раньше, когда бывшая моя вторая жена пыталась сетовать на тяготы жизни, я предлагал ей представить себя с четырьмя детьми, в полуразвалившейся избушке, с дымящейся печкой, с водой, из колонки за полкилометра, с зарплатой в семьсот рублей старыми. Без бабушки, без мужа, без электричества, без газа и ванной, без горячей воды. Предлагал ей закрыть глаза и представить это на мгновение. Она зажмуривалась и бормотала: "Невозможно. Фантастика!" Потом открывала глаза, смотрела задумчиво в окно, усмехалась и расшифровывала усмешку: "Впрочем, на керосине и лебеде, без обуви и штанов я б десяток вырастила".
Не знаю.
Ну а выглядела мама так: видали картину Пикассо "Утюжельщица" из "голубого периода"? Вот она. Это — мама. Она работала утюжельщицей на швейной фабрике, таскала семикилограммовые утюги из смены в смену, выполняя и перевыполняя, опережая и рапортуя. И на Доске почета висела ее фотография, когда отца реабилитировали, а Берию разоблачили. И вспомнили тут, что она давно передовица и прочее. Ну, ладно.
Ей едва перевалило за тридцать, когда она осталась в таком положении. (Сейчас тридцатилетние девчонки по танцам ударяют, перекраивают, лицуют жизни и судьбы, делают пластические операции, прямят носы и уши, красят волосы, щеки и губы...) Мне год, далее — четыре, пять, старшему — семь. Пока меня кормили и лелеяли в Москве, эта контора в три ночи поднималась и перлась в очередь за хлебом. И не только летом. Что еще ели? В магазинах — шаром покати. Молоко продавали частники. Сахар и во сне не часто снился. Крупа — дефицит. В то же время, устроившись на работу утюжельницей, мама еще и "добровольно" подписывала государственные займы на размер месячной зарплаты. Она приходила в такие дни с работы, рвала на голове волосы, скомкав облигации, и по-волчьи выла. Но не плакала. Не умела. Выла только. Это лишь к старости она стала слезливой. Потом, умывшись, ходила по соседям и клянчила взаймы денег. В долг ей почти никто не давал, не верили, что она когда-нибудь вернет. Хотя она возвращала долги обязательно. Тогда выклянчивала в долг литр молока, ведро картошки, горсть соли... Хотя, что говорить! И сейчас приезжают провинциалы и увозят с собой такие странные вещи, что диву даешься. Ну, ладно масло с колбасой и мясом. Конечно, поживи-ка с шестьюстами граммами мяса месяц. Ну, мясо еще можно и на рынке. Помнится, в Казани разок мясо докатилось до пятнадцати рублей кило. Видел куриные потроха на пять рублей кучка. А масла там на рынке не продают, а детишки его хотят. Но едят торты и пирожные на маргарине — куда денешься. Везут рис, макароны, обои, соль, пилки для лобзиков, шариковые авторучки, нитки, шпротный паштет, пакетные супы — всего не перечислить...
Помню, в лютые морозы мама бегала на работу в резиновых сапогах да в железнодорожной шинели. А до фабрики километров пять... Потом справила польский военный китель. Перешила его на руках...
Детство почему-то вспоминается только хорошим. Единственное отрицательное ощущение осталось у меня в памяти — это чувство голода. Голод (после сытой московской жизни) я переживал особо остро. Наиболее трудно приходилось зимой. Летом-то можно поискать что-нибудь, поесть зелени, да и тепло повсюду. А зимой!.. Понятна моя радость, когда, заболев брюшным тифом, я угодил в больницу, приобретя право на завтраки, обеды и ужины. Аппетита, конечно же, не было, но я ел. Ел через силу, постоянно помня, что еды этой не так давно не было, и выздоровлю — ее опять не будет... В больницу ко мне не ездили, потому что на дорогу уходила стоимость буханки хлеба, и все равно посетителей в палату не пускали... С казенным питанием мне не раз везло. Однажды я свалился с крыши и опять посчастливилось попасть в больницу. Болеть не болел, только кружилась голова, когда вставал на ноги, но зато ел досыта. Правда, когда я влетел в больничные палаты с заворотом кишок,— там уж не до жратвы было. Куда глотать, когда в брюхе все перепутано. Помню, доктора даже пытались разрезать мне живот, чтобы распутать мой ливер.
Говорят, кто наголодался, набедствовался в жизни, тот потом становится жадным, у него проявляются наклонности к накопительству, к роскоши (если есть возможность). Не знаю — жадный я или не жадный. Не мне судить. Не раз брался копить. Раз накопил сто сорок рублей, во они почему-то пошли прахом... И с тех пор не брался. Вот до сих пор и не имею ни хрена. Даже угла своего. Валяюсь на чужом диване, на чужой подушке, и на ногах чужие (дежурные) тапочки, а в благодарность за это — цветочков ей даже не принесу. Да-а, осталось еще такое во мне — пересиливаю себя, когда покупаю цветы. В сознание не укладывается эта пустомельная трата денег. Не могу понять, как это, отдать за три цветка стоимость пяти килограммов сахара или тридцати батонов? За понюшку-то?! Эх, надо было, как пошел работать, откладывать хоть по пятерке в месяц. Сейчас бы сколько там было? Наверное, тысячи б полторы запросто! Вот было бы у меня полторы — я бы, в первую очередь, пошел в сберкассу, снял бы... Нет, так ничего не получится!
Читать дальше