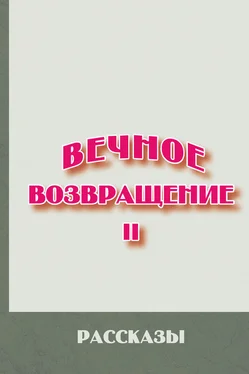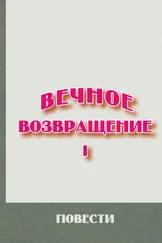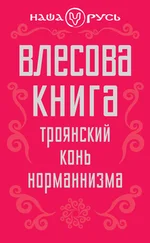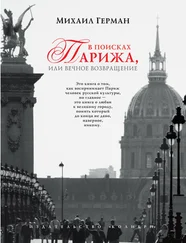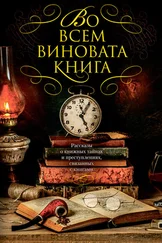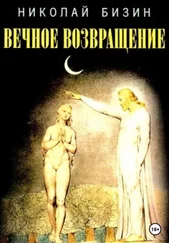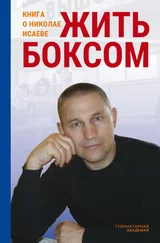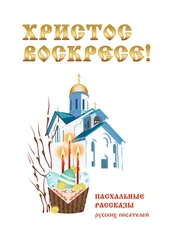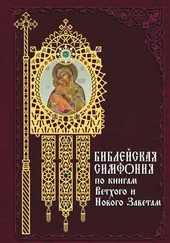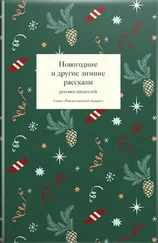Кто знает, не были бы мы такими же «наивными» на их месте – в их время? Но вдумаемся вот еще в какую хронологию: Наташа и Анарх разворачивают свою пастораль где-то в начале века, а спустя каких-то десять-пятнадцать лет герои романа Виктора Кина «По ту сторону» (1928), молоденькие большевики, убивая случайно ставшего помехой на их пути пожилого человека, рассуждают так: «Жуканов, собственно говоря, пешка, нуль. Подумаешь, как много потеряет человечество от того, что он через несколько минут умрет. В конце концов все умрут». Дело происходит уже после революции и на исходе гражданской войны, и новые юноши вступают в мир отнюдь не пасторально, вовсе не с широко раскрытыми от удивления глазами. Совершая свой жизненный путь, который, естественно, не может не быть познавательным, они кое-чему удивляются, кое-что новое и неожиданное открывают для себя, но вообще-то привычка хвататься за оружие у них давняя, испытанная, как если бы они с ней родились. А идиллия младенчествующей революции рассеивается, как дым. Утопия ссыльных не разваливается и не тонет, а просто испаряется без следа. Какой-то стилизованный под ссыльного персонаж появляется в упомянутом романе, выступает против занявших город белых, но смутная и обрывочная запись его образа не дает никакого удовлетворительного представления, на чьей он, собственно, стороне. Более того, герои этого примечательного романа, в иных случаях напрашивающегося на сравнение с прозой Хемингуэя и других сдержанно-мужественных американцев, а некоторыми диалогами предвосхищающего нынешние голливудские шаблоны, образом мысли и чувствования возвращаются, как это ни странно, даже к древним уже формам существования, когда бедный студент мог мучиться из-за того, что зарубил топором старуху, – поскольку их совесть все же немного неспокойна после расправы над беззащитным человеком в зимней тайге. Тем не менее психологический переворот в человеке – или, если угодно, в литературном персонаже – совершился.
Русская дореволюционная литература, даже указывая, кто виноват и что делать, даже выставляя отдельных ее творцов зеркалом революции, а пером других выводя ее духов, ничего не говорит о возможности внезапного, резкого, массового переворота, о восстании масс, о появлении – словно ниоткуда – не только ожесточенных, но и готовых к хладнокровному убийству юношей. Разве что Леонтьев, говоря об опасности смешения и упрощения для культуры, предвидел грядущую катастрофу, но и он вряд ли предполагал, что торжество массового сознания с такой легкостью склонит культурных деятелей к измене веками слагавшимся традициям. Немалое, пожалуй, огромное количество одареннейших писателей вышло из Серебряного века нашей литературы (речь только об оставшихся в России), но в их романах, за редким исключением, перед нами уже не соборяне, не богоносцы, не типичные представители того или иного класса, не мечтатели и прожекторы, не сильноголосые пропащие души и даже не колоритные мертвые, а носители имен и прозвищ, в лучшем случае – погон, званий и чинов, в совершенном – идей, которым, впрочем, вряд ли обеспечено будущее. И как Наташа с Анархом жили, словно бы не ведая о Достоевском, Лескове, Толстом, так без них самих легко обходятся, проживая свои приключения в лесах и городах буферной Дальневосточной Республики, герои Кина. Авторы, живя и творя в одно время, парадоксальным образом оказываются словно жителями и творцами разных и даже, можно сказать, отрицающих друг друга эпох. Но исчезли, как тени в полдень, «чистые душой» бомбометатели и победоносные ниспровергатели старого мира, и нам, умудренным опытом XX века, теперь непонятен и смешон их пафос. А опыт этот печален еще и вот чем: исчезают поколения – исчезает и их литература.
Михаил Литов
Степан мне сказал:
– Комитет поручает вам написать первомайское воззвание.
Недавно были аресты. Я знал, что весь комитет состоит из одного Степана, но в этот момент я верил в могущественный и таинственный орган. Он облекал меня доверием. Не заметил я и того, что мой старший товарищ – человек щуплый, бледный, с реденькими усами и еще более редкой бородой, что напрасно он приглаживает волосы – они и без того лежат скромными, бедными прядями, напоминая измызганную швабру, – и что кремовую рубаху давно пора отдать в стирку, а у ворота пришить пуговицы. Наоборот, если Степан показался мне и не громовержцем, держащим в руках молнии и низводящим грома на землю, то все же человеком властительным, своего рода сверхчеловеком. Я возгордился и почувствовал тягчайшую ответственность.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу