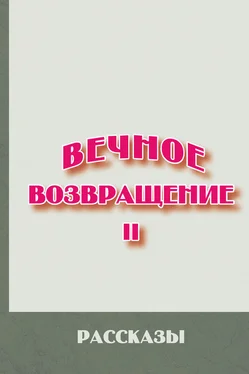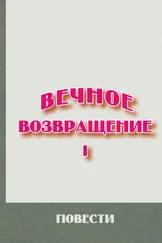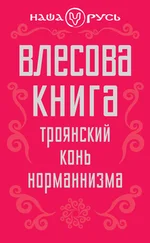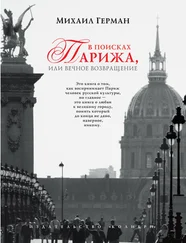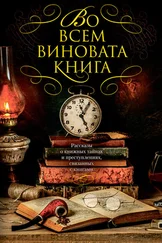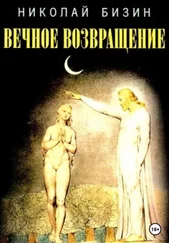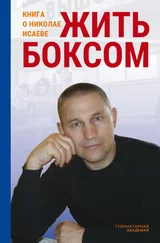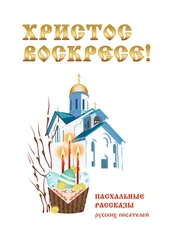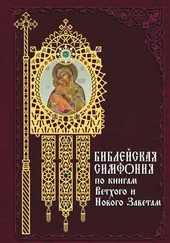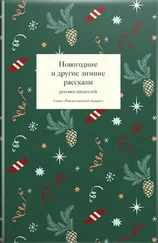К Пашке часто приезжал его отец, пожилой и хмуроприветливый человек, в будние зимние дни носивший мужицкий армяк и огромную заячью ушанку.
Увидев меня в первый раз, он, подавая мне мягкую руку, прищурился и испытующе спросил:
– Из каких будете?
Потом стал расспрашивать об училищных делах и, неожиданно, заговорил о… литературе.
– Тургенева уважаю, а Печерского – люблю: он – из наших.
Герои Мельникова-Печерского, неотрывно прочитанного мной еще в раннем отрочестве, жили когда-то в соседнем уезде, и было странно, но, вместе, и таинственно-отрадно видеть перед собой наследственно-живое повторение Потапа Максимыча (кстати, отца Пашки также звали Потапом).
Я, должно быть, чем-то понравился ему: он, прощаясь, сказал мне, лениво перебирая бороду:
– Будет охотка, – милости просим к нам в деревню: я, чай, не об’едите и не обоспите – живем (он перекрестился в угол), слава создателю, в достатке…
Кроме всего, мы, тесным кружком, и сами заглядывали в николин день в «Россию», – пробирались, волнуемые запретностью, в уединенную дальнюю комнату, долго сидели за стаканами кофе, просматривая газету, – это так напоминало об артистической богеме, – слушали долетающий из зала цыганский визг и бесшабашный разлив томящей гитары.
Николин день проводили в городе торжественно и шумно: далеко за полночь светились в окнах купеческих домов праздничные огни. В этот день было много именинников, в купеческих домах пекли пышные, промасленные кулебяки с налимом и огромные торты, раскрывали, по вечерам, парадные комнаты, тесно загроможденные старинной мебелью и перламутрово озаренные японско-узорными люстрами, на которых хрустально вызванивали искристые, ледяно-прозрачные подвески.
Я любил уездный николин день за его светящийся шум, а еще больше за то, что он уже вплотную приближал каникулы, поездку домой, долгий отдых в далеком родном доме. За огнями николина дня отрадно, прелестно и близко сияла, звала и манила вифлеемская звезда рождества…
В окнах магазинов уже мерцали радужные елочные бусы и плюшево-высеребренные скандинавские деды с вязанками дров, так трогательно (и, вместе с тем, грустно) напоминавшие детские сны, святочные детские метели, сладкие тревоги у притворенных дубовых дверей, за которыми наряжалась хвойно-пахучая, талая елка. Морозы, дико стреляющие по ночам, назывались теперь уже рождественскими, и это давало по утрам чувство какого-то особенного, убаюкивающего уюта, чувство согревающей близости таких же морозных праздничных дней.
Близость каникул чудесно скрашивала и привычные школьные будни, – радостно было проходить солнечным утром по глухим зимним улицам, молодо и звучно скрипя фосфорически-играющим снегом, радостно было подниматься по нарядно-ковровой училищной лестнице, у подножья которой одиноко дремал старичок-швейцар в блеклых галунах и медных медалях. Солнце, алмазно сыплясь сквозь бахромчато-замороженные окна, янтарем заливало скользкий вощеный простор зального паркета, с лучистой дрожью пятнило огромный иконописный портрет болезненного и хрупкого самодержца в бриллиантовой короне, в широкой карнавальной мантии из снежно-смуглого, хвостатого меха. Солнечно, оживленно и шумно было и в длинных коридорах, где порывисто бегали, взвизгивая, первоклассники в аккуратных, туманно-сизых блузках, и неторопливо прохаживались ученики старших классов, с юношеским задором щеголявшие поэтически-зачесанными волосами и бронзово-расчищенными пряжками глянцевитых, высоко – по талии – подтянутых ремней.
В эти дни добрели даже учителя.
Историк Иван Васильевич, славный старик в старомодных очках, наизусть знавший «хронологию» человеческой истории, настойчиво вызывал всех, кому грозила четвертная двойка, всячески помогая им при ответах.
Он искренно огорчался, если все его старания пропадали даром.
– Что ж ты, братец, – укоризненно покачивал он головой, – рождество приближается, а ты не учишься…
И, пристально смотря из-под очков на смущенного юношу, предупреждал:
– Подчитай, все-таки, дома, вызову на следующий раз. Всячески «вывозил» класс и «филолог», еще молодой, похожий на Аполлона Григорьева, человек, с аккуратной обязательностью читающий «толстые журналы» и аккуратно знакомящий нас с новинками современной литературы.
Нередко, в конце урока, он, откладывая в сторону «историю русской словесности» в нелепо-нарядном «земском» переплете, раскрывал «Вестник Европы» или «Русскую мысль» и, счастливо прищуривая глаза, говорил таинственно:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу