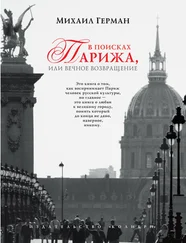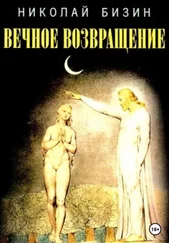– За жабры берет, шельма, – ласково и хитро взглядывал он на хозяйку.
Иногда у хозяев собирались гости, друзья и сослуживцы: судейские чиновники, педагоги, врачи, – долго сидели за самоваром, а потом за граненым графином, который опять назывался уменьшительно и ласково:
– Графишка.
За чаем они обсуждали городские новости, за графином – новости политические. О политике говорили с осторожной язвительностью, строго держась бархатных рамок думской конституции. Но по настоящему оживлялись они только после второго графина: они краснели, возбуждались – и, непременно, пели «Из страны, страны далекой…» или «Вниз по матушке по Волге», – песни студенческих дней, песни молодости, мгновенно блеснувшей на дне слезно-горькой хрустальной рюмки.
Пели, конечно, и другие песни – «игривые», как отзывался о них мой хозяин.
Кто-нибудь из гостей, присаживаясь на диван, рядом с женой приятеля, добродушно щурился, приподнимал плечи и, прищелкивая пальцами, кокетливо выговаривал шантанно-бойкой скороговоркой:
С тобой, божественный Коко,
Держать себя не так легко…
Гости собирались, обычно, по праздничным дням, – и, обязательно, все в тот же сияющий день «зимнего Николы».
В будничные, предсвяточные дни они приходили лишь одиночками и, в ожидании старинного рождественского гуся с разноцветной капустой, довольствовались чаем. Разговор тянулся скучнее, песен совсем не пели.
В предсвяточные вечера, прозрачно отуманенные морозным дымом и крупно обсыпанные звездами, особенно хорошо было на катке, – каток дрожаще сверкал за ельником подобно древне-святочному, сафьяново-оправленному зеркалу, отражающему колдовской свет свечей.
Смороженный ельник, ледяной звон, осторожный девичий смех, легкая, зябкая свежесть пушистой фуфайки, иглисто-перламутровой от инея, чудесная бодрость, наполняющая грудь свободой и силой какого-то летящего – или несущего – простора!..
Помнится упруго-скользящий, искристый разбег серебряно-голубеющих коньков «Нурмис», мелькающие по сторонам маскарадные фонарики, помнится (и, вероятно, никогда не забудется) плавно бегущая гимназистка в горностаевой шапочке, в вязаной барбарисовой кофточке, в короткой, шотландски-клетчатой, складчатой юбке.
Она, на ходу схватив меня за рукав, обертывается, мягко сияет глазами.
– Сережа, бежим вместе, – говорит она с неловко-растерянной, смущенной и милой улыбкой.
Меня, почему-то особенно, почти родственно трогает это простое, домашнее обращение по имени, как трогает и ее горностаевая шапочка, и далекое тепло ее рук, очаровательно чувствуемое сквозь сыроватую лайку узких, душистых перчаток.
Я бегу в лад ее маленьким ножкам в высоких, туго зашнурованных ботинках, – мы мчимся легко и быстро, смеясь, взглядывая друг на друга, часто касаясь плечами, с восторгом ощущая на лице земляничную свежесть мороза. Мороз бусами опутывает ее шапочку, – опять вспоминаются бусы рождества! – серебрит ресницы и брови, влажно алеет на женственно-полудетских, чуть капризных губах, заставляет мглисто прикрывать глубокие и большие глаза, смутно-лиловые от маскарадного блеска веерно расходящихся по сторонам фонарей.
Потом она задерживается, порывисто чертя звенящими коньками, тонко отсеивая ими алмазную ледяную пыль.
– Я, кажется, устала, – вздыхает она, все еще не отнимая руки, – и неожиданно вздрагивает:
– Однако, прохладно.
Я приношу ей легкую беличью шубу, слабо и нежно пахнущую домашним теплом, – и она, набрасывая ее на плечи, чуть танцующе идет рядом со мной, болтая, смеясь, привлекая внимание гимназистов, проносящихся мимо нас с забубенной лихостью, с картинной цирковой ловкостью.
Увидев свободное кресло, она задорно взглядывает на меня, бально повертывается и устало опускается, звеня своими опыленными «снегурками».
А вокруг непрестанно вызванивает струнно-зеркальный лед, и с новой, уже совсем вечерней яркостью, стынут на небе звезды, среди которых особенно великолепна та, что поздно поднимаясь с Востока, туманно-розово, одиноко-грустно, сияет над глубокими снегами, полночным библейским светильником…
III.
Я всегда любил эти поздние звезды, в которых есть что-то усталое, тихое, но, вместе с тем, успокаивающее, как в далеком, чуть слышном заливе бубенчиков под дугой старинной, неспешащей тройки, как в колыбельной песне, сонно воскрешающей детство.
В детстве я смотрел на эти звезды из окон родимого дома с бездумным и светлым очарованием, – так же очарованно смотрел и на пасхальные огни, – в ранней молодости – с тревожно-счастливой любовью, происходящей из глубинного осознания великой, первобытнорайской красоты мира.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу