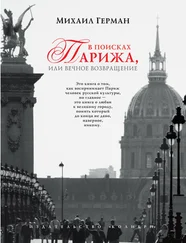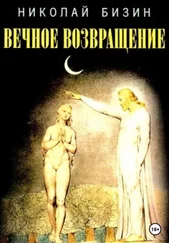Живулькин стыдливо замолчал.
– Я с вами в чувствах вполне согласен, товарищ ветеринар, – сказал бухгалтер, – но я – продукт истории и любовь понимаю исторически, то есть догадываюсь. Мы с моей супругой…
– О любви без сердца не догадаешься, – проговорил Живулькин.
Когда луна поднялась над одиноким тутом посреди двора, Живулькин сказал:
– Ну, вечерок скоротали, а завтра день рабочий, – и пошел спать.
На третий день бухгалтер-инструктор уехал из Тахта-Базара. Сидя под осеннею луной, Живулькин нередко его вспоминал.
«Бухгалтер человек бойкий и на гитаре играет с чувством, – говорил он, – а любовь, по дурости душевной, понимает бесчувственно. Может быть, ему на супругу не повезло?»
Рядом с комнатой для приезжих жил шофер Дымов со своей молодой женой. Между комнатами стояла фанерная перегородка, и вся молодая жизнь за перегородкой была больше чем слышна.
Весь день муж и жена работали, он – за рулем, она – на хлопкоочистительном заводике; вечером они сходились в своей чистой, убогой комнате, мылись, ели, разговаривали, потом заводили патефон, чтобы никто не мог их подслушать, и ложились спать.
Ее звали Клавдюша. Живулькин познакомился с нею на дворе, вечером, когда она выбивала пыль из текинского молитвенного коврика, и стал захаживать к ней в комнату. Комната была выбелена известкой, у стены стояла узкая кровать под белым одеялом, с одной подушкой, у другой стены – стол под белой скатертью; на столе – стопка книг, на окнах – занавески из марли, на стенах – портреты Клавдюши карандашом и красками, подписанные фамилией ее мужа. Шофер Дымов проходил военную службу во флоте и там же окончил художественную школу. Он писал жестко, словно вырезывал. На чистых стенах висели только портреты его жены, сделанные с грубой, неутомимой силой. Пока родина не звала его на защиту, лучшие его чувства принадлежали жене.
Дымов был небольшого роста, с крепким обыденным лицом, глаза голубые и глубокие. Клавдюша – настоящая женщина, гордая, строгая, ласковая, взволнованная своей первой любовью. С другими она была спокойна и говорила мягким, ровным голосом. Ей было двадцать лет. Казалось, она знала глубоко, не сомневаясь, всю трудную простоту жизни, что стоит первая женская ласка и цену своей ласки.
Она была смуглая, кудрявая, с большой, недевичьей грудью и странным лицом – отчетливым и печальным, смеялась задорно, как ребенок.
– Какая жена у шофера! – сказал Живулькин Кулагину.
Кулагин не ответил. Его тоже волновала жена шофера, но в этом стыдно было признаться: шофер был хороший, открытый человек, и Кулагин любил свою далекую жену.
– Смеется звонко, а тихая, в самой себе живет, – сказал Живулькин.
– Дымов тоже славный, – сказал Кулагин, – талантливый, учиться ему надо, был бы художником.
– Шофером работать веселее, Андрей Петрович, простору больше.
– Пожалуй.
Живулькин относился к Клавдюше просто и почтительно. Он ни на что не надеялся и ничего не добивался, его преданность была легкой. По вечерам он приносил Клавдюше воду и подметал двор перед ее дверью.
– Посидели бы, – сказал Кулагин, – будет вам суетиться.
– У Клавдюши работа горячая, устает.
– В двадцать лет?
– Почему молодой женщине не помочь? – прошептал Живулькин. – Ей полезно, а мне приятно. Она несмелая, за все благодарит.
Однажды Живулькин принес Клавдюше бутыль керосина и застал ее неодетой, она мылась над тазом. Живулькин сказал:
– Ну, мойтесь хорошенько, я потом зайду, – вышел за двор, сел у ворот на скамеечку рядом с Кулагиным и закурил.
– Скучаете, Василий Иванович? – спросил Кулагин. – Скоро поедем на колодец, домой.
– Задержались мы здесь с этим бандитским стадом, вот неладное, и смотреть-то не на что, одна хурда.
– Случная у нас на носу.
– Время ответственное, Андрей Петрович.
– Надо торопиться.
– Пора нам отсюда откомандироваться, ей-богу, пора.
– Рано смеркается, больше тысячи голов в день никак не ощупать.
– И то от зари до зари.
– У меня мозоль на пальце от карандаша.
– К вечеру всю спину разломает, ночью долго не спишь.
На другой вечер Живулькин сказал Кулагину:
– Клавдюше что-то неможется, легла, – и сам лег на свою кошму раньше, чем обыкновенно, до прихода шофера, и сейчас же заснул.
Шофер вернулся домой грязный и радостный, как всегда.
– Лечу к тебе! – крикнул он жене, хлопнул дверью, скинул сапоги и стал торопиться мыться, роняя мыло. – Черт, весь в масле и пыли, не отмоешься. Хлопка в этом году! А дорога – яма на яме, чинят ее, чинят, один песок. Такая пыль. Я еще ничего не ел. Она мне и ночью снится.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу