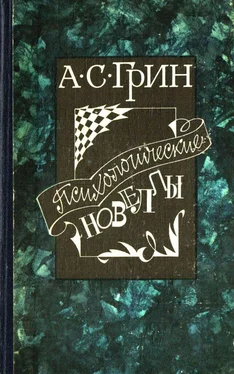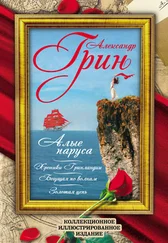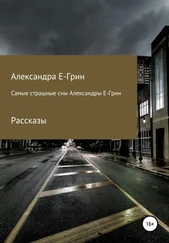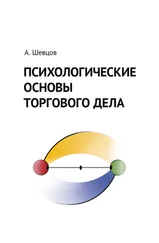Объем знаний Грина в этой области, точность изображения сложнейших психических процессов, подчас превосходящая уровень представлений его времени, вызывают сегодня удивление специалистов. По словам известного советского психофизиолога профессора Р. Лурия, «никто из писателей не сумел так блестяще описать функции головного мозга», создать «поразительно точную и расчлененную картину деятельности нейронов» его коры, как А. Грин в рассказе «Возвращенный ад».
Необходимо подчеркнуть — речь идет отнюдь не о том, что писатель замыкается в психопатологии, испытывает к ней «особое» пристрастие и пр. В этом Грина можно обвинить не с большим основанием, нежели Достоевского. Грин с поразительной изобретательностью умеет превращать, казалось бы, очевидную «историю болезни» в широкую метафору, не имеющую к первоисточнику никакого отношения: таков, в частности, сюжет рассказа «Путь», где зрительные галлюцинации Эли Стара, вызывающие у его друга Кестера «потребность немедленно… обсудить качества одной хорошей лечебницы», самим автором используются лишь для того, чтобы в очередной раз провозгласить излюбленную мысль о существовании романтического мира воображения, на поиски которого стоит положить жизнь.
Острый интерес Грина к психологии и психиатрии вовсе не нуждается в оправданиях — это экспериментальное поле наблюдений литератора, самой своей профессией поставленного перед необходимостью заглядывать в «тайное тайных» человека и не просто сотрудничающего здесь с наукой, но нередко и помогающего ей в решении ее собственных задач. В статье «О том, как я учился писать» Горький в такой связи вспоминал Бальзака: «…Гонорий Бальзак, один из величайших художников… наблюдая психологию людей, указал в одном из своих романов, что в организме человека, наверное, действуют какие-то мощные, неизвестные науке соки, которыми и объясняются различные психофизические свойства организма. Прошло несколько десятков лет, наука… создала глубоко важное учение о „внутренней секреции“» [4] Горький М. О литературе. — М., 1953. — С. 308.
. В письме к Федину Горький обращал внимание и на другую сторону вопроса — на то, что «человек — существо… психологически фантастическое».
Сейчас, когда научно-техническая революция вступает в фазу господства биологических наук, а следующий этап ее, по прогнозам философов и социологов, будет уже непосредственно связан с революционными открытиями психологии, тяга Грина к «редким, исключительным положениям», позволяющим «поворачивать реальный материал его острым или тайным углом», приобретает новую актуальность.
Пользуясь словами одного из персонажей Грина, писателя интересует не «страшное», а возможность «развернуть душу» человека, бросить свет на ее «темные, полусознательные пути», на «самый сложный и таинственный аппарат человеческих восприятий», на «причудливые трещины бессознательной сферы». В этом интересе Грин опирался на прочные традиции русской классики, если иметь в виду и роман Лермонтова, и некоторые произведения Тургенева, и какие-то грани толстовской «диалектики души» в «Крейцеровой сонате» или «Смерти Ивана Ильича», и метод Достоевского, отказывающегося, по формулировке Л. Гинзбург, от «объясняющего психологизма», и Бунина с его «Делом корнета Елагина», «Легким дыханием», «Митиной любовью», и многие произведения Л. Андреева.
В западной литературе Грин-психолог ищет не просто фабульную обостренность, заманчивые сюжетные коллизии, экзотику: необычные обстоятельства приоткрывают необычные грани человеческой натуры, обостряют драматизм повествования, демонстрируют интеллектуальные возможности героя (и автора). Всему этому Грин учился у Э. По, Р. Стивенсона, Д. Лондона, Э.-Т.-А. Гофмана, Д. Конрада, П. Мериме, хотя многие свои источники словно бы сознательно не называет, «утаивает». И «учеба» его начисто лишена подражательности — настолько серьезно переосмысливаются, включаются в совершенно иной контекст запавшие в творческое сознание Грина сюжетные схемы и образные идеи.
Очень показательны в этом плане «взаимоотношения» Грина с Г. Уэллсом. Вряд ли Грин мог не знать рассказы, в которых английский прозаик явно предвосхищает его излюбленную тему — существование иного, фантастического мира, параллельного реальному и находящегося буквально «под руками»: «Волшебная лавка» (на русском языке — в 1903 г.), «Дверь в стене» (на русском языке — в 1906 г.), «Замечательный случай с глазами Дэвидсона» (на русском языке — в 1909 г.). Но, обращаясь к этой теме, Грин оказывается куда большим фантастом, чем Уэллс, и заходит в ней куда дальше героев Уэллса, всегда остававшихся по эту сторону «двери» и не решавшихся открыть ее.
Читать дальше