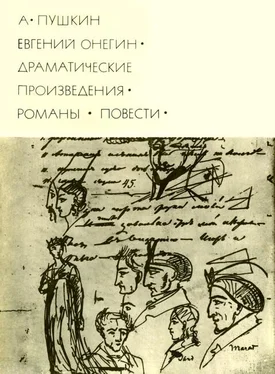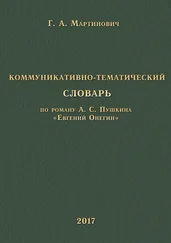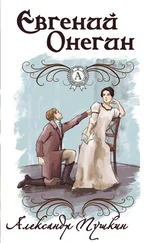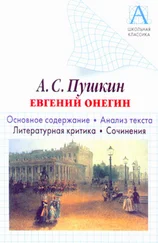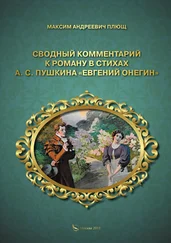Наконец, автор «Евгения Онегина», главы которого стали появляться раньше таких классических образцов западноевропейского реализма XIX века, как романы Стендаля и Бальзака, первым совершил художественное «открытие действительности» в масштабах развития всей мировой литературы.
То, что сказалось уже в первых главах «Онегина» — умение не только увидеть взглядом поэта и запечатлеть кистью мастера художественного слова жизнь человека, общества, народа, но разумом историка и социолога осмыслить настоящее как результат предшествующего исторического развития и вместе с тем разглядеть в нем зерна и ростки будущего, — составляет одну из важнейших сторон мировоззрения и творческого метода зрелого Пушкина, одну из могучих основ его реализма.
В кругу исторических раздумий Пушкина одно из ведущих мест занимают судьбы русской нации, русского национального государства. Он отдает себе полный отчет, что проблема эта находится в непосредственной связи с другой, прямо подсказывавшейся ему декабристской современностью — борьбой за свободу политическую и социальную. В набросанных еще на юге «Заметках по русской истории XVIII века» основной задачей русского общественно-исторического развития прямо объявляется борьба против «закоренелого рабства». Но вскоре Пушкин начинает сознавать, что в подготовке «великих перемен», замышляемых его друзьями-декабристами, сам народ участия не принимает. Это порождает еще более жгучую потребность разобраться в проблеме отношений между правящим классом и порабощенными народными массами, выяснить причины и следствия роковой разобщенности между ними и передовыми кругами общества. В романтическом плане этот вопрос возник уже в «Цыганах». Он же составляет идейную подоснову романа в стихах. Однако наиболее непосредственно проблема народа, его роли в истории, его исторических судеб ставится в начатой Пушкиным в 1824 году и законченной совсем незадолго до восстания декабристов трагедии «Борис Годунов». «История народа принадлежит поэту», — утверждал в эту пору Пушкин. И в своей трагедии он подходит к истории именно как поэт, стремясь оживить ее, развернуть яркую и полнокровную картину прошлого — людей и событий давно минувших времен. В то же время он настойчиво и последовательно старается «воскресить минувший век во всей его истине». В результате было создано произведение в высшей степени своеобразное и в своем роде единственное: несравненное по своей художественной силе и вместе с тем почти совершенно лишенное художественного вымысла.
Задачам, поставленным перед собою поэтом, никак не соответствовали традиционные формы драматургии классицизма. И поэт-драматург, противопоставляя «придворному обычаю» трагедий французских «классиков» «народные законы» пьес Шекспира, вступает на путь коренного «преобразования драматической нашей системы», «устарелых форм нашего театра» — путь дерзания и новаторства.
Вместо предписанных поэтикой классицизма двадцати четырех часов действие «Бориса Годунова» охватывает период в семь с лишним лет. Отброшен принцип «единства места»: действие трагедии развертывается с необыкновенной калейдоскопичностью — переходит из дворца на площадь, из монастырской кельи в корчму, из палат патриарха на поля сражений, даже переносится из одной страны в другую — из России в Польшу. Это позволяет поэту обнаружить скрытые пружины исторических событий. То, что совершается во дворце, объясняется тем, что происходит в боярских хоромах, а последнее обусловлено тем, что творится на площади.
В «Борисе Годунове», не имеющем центральной любовной интриги, обязательной для поэтики классицизма, огромное количество (около шестидесяти) действующих лиц, представителей всех слоев тогдашнего общества. Вопреки традициям, здесь нет и главного героя. Трагедия называется именем царя Бориса, но она не только не кончается его смертью, но и фигурирует он всего лишь в шести сценах из двадцати трех. Вся пестрая и многоликая Русь эпохи «многих мятежей» проходит перед нами в живой и движущейся, шумящей, волнующейся, «как море-окиян», полной событий панораме. Русь конца XVI — начала XVII века и является главным действующим лицом, своего рода коллективным героем пушкинской трагедии.
По-шекспировски «вольно и широко», мастерски пользуясь средствами речевой характеристики, лепит Пушкин человеческие характеры, — в этом с особенной силой сказывается его новый художественно-реалистический метод.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу