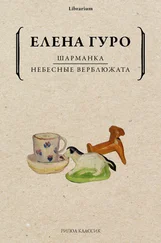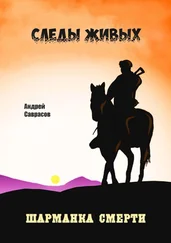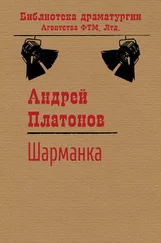«Они все умели приказывать. Размах плеч был у них всех повелительный».
«Лампы, окна были, что и вчера, но теперь они знали уже все, как мебель в кабинете отчима, – проглотили это и рассматривали ее. От любопытства они отяжелели. Сгоряча она не заметила, что идти ей больно. – Мужчины смотрели на нее как будто знали, что один из них сейчас побил ее. Мужчины обжигали ее толчками и заглядывали с уличным удовольствием ей в униженные глаза, красивые от боли и смущенья».
«Горели, сверкали огни. Точно свалилось сразу».
«Захотим приласкаем, захотим побьем». «Ей показалось, что все они могли ей приказать, и она должна была бы их слушаться. Белоподкладочники студенты прошли, заглянув ей в лицо и толкнули Друг друга. И эти наложили на нее тавро. И в теле это отдалось тупой тяжестью».
– «Это так и надо, это все то-же, другого не будет».
И вдруг показалось, что так ей и надо, и стыд и боль, и стыд. Она не смела поднять лицо; они были очень красивы.
И была безграничность, и страсть была в Этом горячем потоке взглядов, полупинков развязно-гуляющих. Так и мчало куда то все оживленней и скорей: – огни хлестали ночь.
От боли она принуждена была пойти еще тише. Все в пей опустилось. – А они раздували пьяные ноздри, и обливали ее горячими тяжелыми взглядами, потому, что приниженные глаза ее стали темнее и красивее. И нахлынула через голову, потянула горячая волна – падать в безграничное униженье без конца.
И тогда ей показалось, что не было у нее дома, куда возвращаться, ни настоящего имени… Она про себя подумала: «женщина»… Что то стирала и уносила улица. Толпой сменившихся лиц стирала. Бесшабашно и беззаветно… И ей стало легко, уж не стыдно, и не едко. Мужчины бы крикнули: Нелька, Мюзетка, Жюльетка! «И что то оторвало ее от вчера и от дома… Никакой отдельности, как у серых покорных камней мостовой без прошлого, без мысли. Точно она жила постоянно на улице…
И ей показалось трогательным смотреть в чужие красивые окна, уже стемневшие и холодные… И была это уже беспредельность, как серые переливные окна уходят рядами в улицу. Беспредельность…
Ей стало не стыдно и беззаботно. В теле была тяжесть, внутри ныло, поднималось; и хотелось, чтоб сыпались унижения без конца…
Одна табачная еще не была закрыта, потому что служила и для «ночного». Только окно было заставлено куском картона с улицы. Висели, клубясь, густые обшарканные портьеры. В этом месте, куда заходят мужчины, оглянули Нельку враждебным недоуменьем. Но потом, усмехнувшись, толкнули друг друга. И, покорно получив коробку, она поспешила выйти. А у мужчин были непорочно-чистые манжеты на светлых руках, и почти невинные, трогательно-чистые воротнички у розовой вымытой шеи.
Сверкали провалами света рестораны и закусочные. По улице уже двигался шумок подавленных смешков, визгов увлеканья. Кто-то взял ее за талью, повернул за плечо. Обсмотрели. На стенах горели ночные тайны.
И горячие взгляды к ней липли горячей болью и пригибали ее до земли.
Плеть огней хлестала темноту. Хлестала ночь. Озаряла радость без света.
– «Раздавите меня, избейте меня шпорами, унизьте меня…»
. . . . . . . . . .
«Вот качается висячий фонарь, где нибудь, у чьих то ворот, в ночной улице. Вот всю ночь качается фонарь. Его трогает ветер за плечо и вздыхает; и тихонько спрашивает кого-то стемневшая улица торопливыми шагами своих женщин…»
«Вот ветер тронул за плечо, – он спросил что то и тронул за плечо. Синие бархатные глаза бога глядят в город. Бледнеют от безумства бледных огней. Бледнеют до рассвета». «Кто то бобровый, в темной улице властно подсадил в сани «свою», молодцевато застегнул полость и послал вперед, в ночь».
«На панели студент тащил хихикающую проститутку».
. . . . . . . . . .
Стараясь не поднимать глаза выше его ног, протянула отчиму папиросы. Стараясь не видать стен. Бросилось в глаза его глянцевитое, смутное от разгоревшегося тела лицо, и нарочно на виду выложенный хлыст. Хотела не увидать также его заигрывающего, высматривающего взгляда. Но что-то пригнуло ее низко, и длинно посмотрела. Лежал хлыст с ручкой красивой кавказской чеканки. Он бил ее красивым хлыстом, таким красивым, что его хотелось взять и потрогать, и даже приложить к щеке.
И нежные плечи ее точно надломились и поникли по бокам руки.
Стены жадно смотрели, жаждали унизительного. Наслаждались. Он взял хлыст и хлестнул воздух. Свиснуло. Она вздрогнула – не могла, точно впилось в ее тело. И еще. «Наслаждался эффектом. Она собралась и закаменела, чтоб не отдать последнее. Но он уже наслаждался… Хлестнул ночь. Молчаливую черноглазую ночь. Эх, и еще! – Поживи повертись». «Точно с провизгом где то цыганки пели… «Опьянела, опьянела…»
Читать дальше

![Эмэ Бээкман - Глухие бубенцы. Шарманка. Гонка [Романы]](/books/24691/eme-beekman-gluhie-bubency-sharmanka-gonka-roman-thumb.webp)