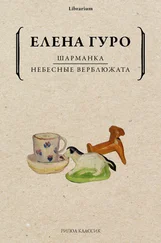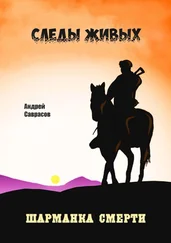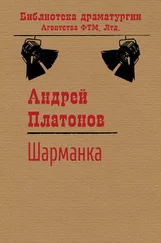Чтобы получить эти радостные, одетые тесом дома, обсаженные красными и голубыми цветами, яркие желтые дорожки, лакомые куски теплой жизни, надо разбивать друг-другу голову, с одного удара, и уметь хорошо прятаться, и не бояться завтра… Не бояться завтра…
Люди гадали. Сидела у красного тепла чертовка мрачного севера Лоухи, и разбирала нити судеб, старалась, суеверная, доискаться. Ну, да немного разберешь кривыми лапками! Сердилась, шептала, шипела, и в досаде убегала белкой на ель, опять копалась. Люди покупали у нее амулеты. Гадала. Она старалась уловить в свои руки кривую судьбу людей. Кроме той, что текла под всеми вещами изначала, вечным теченьем, бродила еще кривуля и людей пугала суеверьями и приметами. С ней через старуху старались войти в сделку.
Это богатая жизнь крутом корневилась, коренастая, и пестрела, как раскрашенная дуга.
Нужно было рожать и рожали, продолжали жизнь поколений. Покупались на куски ярких лент. Самкам нравилось яркое.
Чертовка гадала – разродится-ли беременная, гадала, чем кончатся бои самцов.
Заигрывает старуха с судьбой – а море катится, – и это судьба. Дождик пасет по песку пегие камни, – и это – судьба.
Да будет.
Мчатся волны жизни, волны голода, жадности, сытости, жирной игривости, – битва благ. Ссорятся из-за доброго тепла – и милой еды; – отбивают друг у друга самцов – беременеют – родят.
Бусы, ленты, корсеты, румяна, помадки. Кровать женщины, обагренная ее-же кровью, и ее пролил ее-же детеныш. Ее мужчина приносит подарок, и она радуется бусам. Ей завидуют другие – не беременные; – Она хвастается, и потом умирает.
В жилище дикаря в тундре висят трофеи. Навоевано много. Ползком он вползает спать. Тундра засыпает. Греет самка кормленная, богатая. И он благодарен ей за то, что она теплая и добрая.
I.
Я так далеко заброшен среди земли, что только часы и календарь служат вехами в пучине времени: они что то разделяют, устанавливают твердое, точное на что можно опереться, чтобы не потеряться, но и слишком человеческое. И я думаю с соблазнительной сладостью страха: а что если часы остановятся.
Я иду и, вот, берег такой пустой, что небо и море выпуклые и они дышат. Внезапно слышу присутствие: из сухой травы, черное бархатное лицо смотрит на меня косыми коварными глазками. Здесь под навесом сложенных досок живет кошка. Но чувствую, я здесь неприятен – и отхожу.
Как бережно надо обращаться со всякой искрой жизни, думаю я, потому что сильно люблю и эту елку и ее большой пузатый живот, покрытый чешуей.
Творят умные сосны… Ярко горят медные стволы, и раскаленные иглы в гордом блаженстве. Это мгновенье такой гордости, что птицы молчат в лесу. Я не знаю таинственного творчества деревьев, а они не замечают меня…
Творят камни. Творят жаркие блаженные лягушки. Творят. Они творят…
…Бьет полдень.
О! солнце! Художников, деревьев, поэтов, солнце детей, играющих в формочки, кроликов и котят на горячем песке! О, солнце…
Согнутые елки, от наслажденья положили словно змеи свои теплые животы на песок и нежатся.
На дорожку выбегает самка, гремя светлыми бусами, и, насторожившись, смотрит в чащу. Может быть она, чем нибудь, испугана? Она роняет зонтик и поднимает его, все так же не сводя глаз с одной точки. Лесные страхи? Или ее преследовали? На брюхе у нее болтается украшенье: жемчужное с золотом. Она вероятно с больших дач на горе: ее могло испугать и какое нибудь четвероногое.
. . . . . . . . . .
Утром проходя мимо лавки, я видел груды нарезанных ломтей хлеба, бочки в человеческий рост колотого сахару – сыры.
Святые ломти хлеба, сыру, масла, поддерживающие жизнь.
На балконе сидели трое толстых и пили пиво. Лица их лоснились. Из какой глубины крепкого сна вылезла эта жизнь, чтобы так лосниться, розоветь и пить пиво.
Но мое лето доспело, и вот, вот перешагнет невидимый порог. А для жизни, для сосен, которые должно уважать, мне хочется, крепких красных лодок на солнечной воде, пузатых кубышек с яркими полосками, груды овощей с черных огородов, и веселых, добрых детей, которые гладят пушистых кроликов.
Жизнь хороша, теплая, хлебная, пушистая, как осенняя синица. Потому я увожу непригодное из жизни. Человек думает приласкать и покрыть крыльями весь мир, они у него уже довольно сильны от горя.
И поддержать я хочу, сколько могу, этот мир умираний, страданий, горя, концов и начал, и великой, великой необходимости.
На колени мне садится птенец с распоротым боком; его очевидно задели косой. Он умирает. Я даю ему пить и сижу тихо, тихо пока он умрет. Это последняя ласка его жизни. Я хочу покрыть крыльями весь мир.
Читать дальше

![Эмэ Бээкман - Глухие бубенцы. Шарманка. Гонка [Романы]](/books/24691/eme-beekman-gluhie-bubency-sharmanka-gonka-roman-thumb.webp)