— Не говори о смерти сегодня. Сегодня праздник живых. Сегодня нет мертвых. Все живы, все. Сегодня все, от человека до прозябшей былинки, славят воскресшего Христа. Но не печалься в эту великую ночь Воскресенья… Ты видишь: неразлучны мы с тобой, ибо любовь наша сильней времени и пространства, сильней разлуки и смерти — ибо любовь наша вечна и бессмертна…
Мы неразлучны — помни это: неразлучны!..

Утром под Новый Год буря утихла, но зато пошел липкий, противный снег. Он забирался за воротник и в рукава, стекал, растаивая, по лицу, слепил глаза.
«Метеор» шел из Лондона в Ригу. Переход небольшой, но зимой не из приятных. Мы, подвахтенные, второй механик и я — второй помощник капитана — кончили обедать. Я хотел взглянуть на большие часы, висевшие за моей спиной — надо же было знать, сколько минут осталось еще до начала вахты. Архимед встал, тщательно сложил свою салфетку, сунул ее в кольцо и медленно, молча, как делал все, вышел из салона. Теперь я мог и не смотреть на часы: Архимед, как хронометр, всегда отправлялся на вахту ровно без десяти.
Архимед… Кто, когда впервые окрестил так нашего второго механика Иванова, — не знаю, но все так привыкли к этому прозвищу, что никому не приходило в голову назвать его как-нибудь иначе, ну, по имени-отчеству. Да мы, по правде сказать, и не знали, как его зовут. То есть, за ненадобностью, позабыли.
Архимед всегда был молчалив. И только тогда нарушал свой обет молчания, когда дело касалось математики. Этот бледный, невзрачный человек был пророком, апостолом своей любимой науки. Она заменяла ему религию, все человеческие привязанности, семью, любимую женщину. Вне математики для него не существовало, кажется, в мире ничего.
Нужда эмигрантской доли загнала этого умного и талантливого человека в пароходные механики, но по призванию это был кабинетный ученый. Каждую свободную минуту он посвящал чтению математических книг, которых в его каюте было очень много, вычислениям и чертежам. Он не расставался со своими тетрадями даже на вахте. Казалось, он боялся, что кто-нибудь унесет в его отсутствие из его каюты и прочтет эти драгоценные листки. Сколько мы могли понять из его разговоров мы, не математики, знавшие эту науку постольку, поскольку она была нам необходима для морских вычислений, — Архимед строил какую-то свою систему, которая должна была создать целую революцию в математике. Мы слушали его со снисходительной усмешкой. Что же, в конце концов, конек имеется почти у каждого человека. Ну а работник и товарищ Архимед был отличный.
Я вышел вслед за Архимедом. Он шел впереди меня. Проходя по обледенелой палубе, он споткнулся. Смешно размахнул руками, чтобы удержать равновесие. Какие-то бумажки выскользнули у него из рук. И ветер понес их, играя, в воду…
— Мои чертежи!
Никогда ее забуду я дикого крика, который пронесся над палубой. Крик, стон человека, у которого отняли все. Обезумевши, он рванулся к борту, словно хотел поймать улетавшие чертежи, броситься за ними в воду.
Зашатался и упал с новым стоном.
Мы подбежали к нему, лежавшему неподвижно на обледенелой палубе. Поспешил, застегивая на ходу пальто, и наш судовой врач Озоль. Наклонился над распростертым телом, которое злобно засыпали снежные хлопья, и сказал, равнодушно пожимая плечами:
— Разрыв сердца…
И через пять минут весь «Метеор» уже знал, что бедный Архимед решил все свои жизненные проблемы…
Грустно встречали мы на этот раз Новый Год, и без того невеселый в море. Подвахтенные сели ужинать в обычное время, но сегодня не радовали дозволенные в этот вечер вина. Разговор не клеился. Воображение рисовало картины того, что осталось на берегу. Вспоминались близкие… родные… дом, может быть, зажженная в последний раз елка.
Капитан наполнил стаканы:
— С Новым Годом, господа!
Но это «с Новым Годом» прозвучало так же грустно, как плач морских волн за бортами «Метеора».
Мы пили немного. Настроение слегка поднялось, но в душе оставался все же мутный осадок. Никак нельзя было отделаться от мысли, что в своей койке, в темной каюте, лежит неподвижный и до ужаса серьезный Архимед, решивший все свои проблемы. И что-то невыносимо жуткое было в этой мысли.
Я посмотрел на часы. Было без десяти минут двенадцать. Будь еще жив Архимед, он поднялся бы с своего стула, аккуратно сложил бы салфетку и направился к дверям. Десять минут… Сейчас наверх, сменять продрогших товарищей…
Читать дальше
![Елизавета Магнусгофская Тринадцать: Оккультные рассказы [Собрание рассказов. Том I] обложка книги](/books/389586/elizaveta-magnusgofskaya-trinadcat-okkultnye-ras-cover.webp)

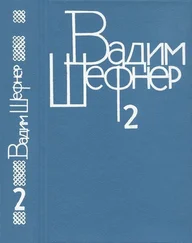
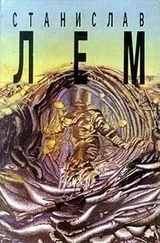
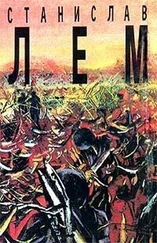
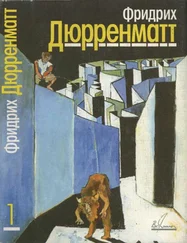


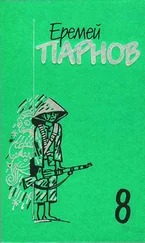


![Елизавета Магнусгофская - Не убий - Сборник рассказов [Собрание рассказов. Том II]](/books/389585/elizaveta-magnusgofskaya-ne-ubij-sbornik-rasskazov-thumb.webp)
![Мэтью Шилл - Бледная обезьяна и другие рассказы [Собрание рассказов, Том II]](/books/412441/metyu-shill-blednaya-obezyana-i-drugie-rasskazy-sob-thumb.webp)
