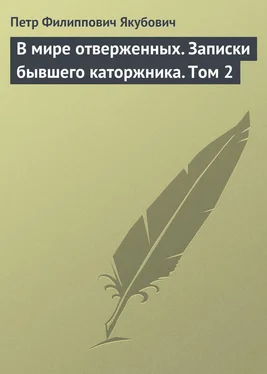— Прочь от меня… Не смейте никогда больше со мной разговаривать!
Не ожидавший подобного афронта, Грибский опешил. Страшно побледнев и весь съежившись, он принял вдруг самый плачевный вид.
— Дмитрий Петрович, да что же я такое сделал? — забормотал он.
Штейнгарт повернулся к нему спиной.
— Я тебе, Грибский, вот что скажу, — заговорил тогда Чирок, — Митрий Петрович и Иван Миколаич не любят этих самых слов. Не выносит, значит, душа, да и все тут! А ты такое, брат, мелешь, что уж чего мой пермяцкий язык срамословить любит, а и мне, скажу тебе, подчас муторно становится…
— Дурак ты эдакий, — вступился и Сохатый не то серьезно, не то, по обыкновению, иронизируя, — ты должен понимать, в какую тюрьму попал и с какими людьми обращение теперь имеешь. Ты думал, здесь каторга, а на деле тут — ниверситет, и ты студентом должон понимать себя, вот что!
— У нас банки отсекали до вас кажному, кто только мать выругает! — с гордостью добавил Луньков.
— А ведь что ж, ребята, самое это разлюбезное дело! — сорвался вдруг с нар плечистый мужчина с мрачным выражением красного, как морковь, угреватого лица и маленькими рыжими усиками, Карасев по фамилии. — Я сам смерть не люблю этой нашей дурной привычки… Давайте, братцы, и мы в это согласие вступим. Банки тому сукиному сыну, кто хоть раз помянет мать аль отца нехорошим словом!
И за этим энергичным выкриком он сделал в духе энергичное движение кулаком.
— Что, брат Грибский, заварил кашу? — захохотал другой арестант, спокойно лежавший на нарах.
Он давно уже производил на меня крайне неприятное впечатление своими наглыми светло-серыми глазами, постоянно, точно у волка, оскаленными, белыми как слоновая кость зубами и всем своим лицом, тоже ослепительно белым и прекрасно упитанным. Рядом с этим антипатичным развязным блондином, фамилия которого была Тропин, лежал четвертый из новичков, худощавый брюнет с длинными усами и прямым острым носом; темные глаза его в глубоких впадинах смотрели пронзительным и почти диким взглядом. Звали его — Стрельбицкий; он не проронил пока ни одного слова.
Грибский попрежнему стоял возле наших нар, повесив голову и имея самый виноватый вид.
— Я что же… Я, как все, господа, — продолжал он оправдываться, — против общества я никогда не пойду. Я даже очень буду рад… Конечно, глупая привычка наша всему причиной… К тому же иные настоящие господа очень даже сами одобряют крепкое слово… Приходилось мне и порядочное общество тоже видать… Но ежели ваш характер иного рода, так простите великодушно, я не знал ведь…
Несчастный «любитель» имел очень комичный, жалко-растерянный вид.
— Больше, значит, не будете? — сурово спросил его Штейнгарт.
— Прямо язык себе позволю отрезать! — обрадовался Грибский. — Прямо вот принесу ножик, подам в руки и скажу: «Режьте, Дмитрий Петрович, заслужил!»
— Ну, надо, значит, в другую камеру проситься, с барами нам не житье! — гневно произнес вдруг худощавый мрачный брюнет, поднявшись с нар. И, громко брякая кандалами и стуча сапогами, он стал расхаживать взад и вперед по камере, крутя одной рукой усы и исподлобья бросая в наш угол злые, пронизывающие взгляды.
— Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Молодчинища Стрельбицкий, славно, брат, отбрил! — залился веселым смехом Тропин, перевалившись с одного бока на другой и скаля острые белые зубы.
— Дичь вы необразованная, еловая дичь! — ядовито бросил в сторону их обоих Карасев — тот мужчина с угреватым красным лицом, который вызвался перед тем вступить в «согласие».
Я давно уже замечал, что в этом человеке, работал ли он, отдыхал ли, разговаривал ли с кем, вечно, казалось, бурлило и клокотало тайное недовольство, злость на кого-то или обида на что-то. Вечно он на что-нибудь ворчал, проклинал то начальство, то арестантов, то самого себя. Когда же не было повода к чему-нибудь придраться, он упорно молчал по целым часам, угрюмо насупившись, с налитыми кровью глазами без ресниц, с подозрительно насторожившимся видом, точно зорко выжидая и выслеживая, где бы и в чем бы уловить хоть тень обиды себе и оскорбления. Очевидно, это был человек из породы тех самогрызунов, недалеких, беспричинно злобных и сварливых, которые умеют делать несчастными и себя самих и всех окружающих их людей. Когда на Карасева находили, случалось, порывы добросердечия, то в них было что-то неестественное, слащаво-сентиментальное, и, конечно, порывы эти были всегда крайне мимолетны и оканчивались сугубой бранью с сожителями… Так, в настоящую минуту он встал ни с того ни с сего на защиту благопристойности и с гневом обрушился на двух товарищей, заявивших себя ее противниками.
Читать дальше