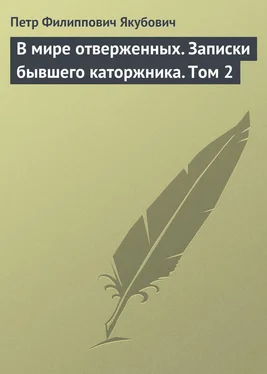В тот же день Чирок, не присутствовавший на сходке, говорил мне таинственно в бане, где он стирал белье и куда я случайно забрел:
— Хорошо мы знаем, Миколаич, что Юхорев глот. И то знаем, что он все, обязательно все, что в тюрьме делается, Шестиглазому переводит. А только никак нельзя нам встать за тебя.
— Почему нельзя?
— Эх, ровно дите ты малое, право! Не знаешь разве арестантских порядков? Ведь нам житья не станет от Иванов, скажут — махоркой да мясом купили вас, продажные души!..
С выражением подобного, же тайного сочувствия подходили ко мне и многие другие арестанты, как из старой, так и из новой партии. Из этой последней несколько человек присутствовало даже на сходке. Новички, еще полные ужасных впечатлений этапного пути, а также слухов об омерзительном пищевом режиме других рудников, по-видимому, совершенно искренно недоумевали: как возможна такая черствая неблагодарность по отношению к людям, которым тюрьма стольким обязана?
— Помилуйте, да за таких людей надо вечно бога молить, а не то чтобы что… От цинги одной, как собаки, подохли бы без табачишку… А вы помогу оказываете, заступники наши в кажинной беде! Довольно мы еще в дороге наслышаны, всюду ведь слух-то прошел: не люди, а прямо анделы небесные! Ну да не печальтесь, господа. Наша партия все по-новому переделает. Мы этим глотам вашим, Юхоревым-то разным, почирикать много не дадим… Набаловали вы их шибко.
Таким искательным языком говорило вначале большинство новоприбывших. От среднего типа старой партии такого языка я давно уже не слыхал. Старые шелайские арестанты, «набалованные» ли нашим деликатным обращением, «просвещенные» ли шестиглазовским суровым режимом, держались более горделиво и независимо, были в высшей степени амбициозны и чутки насчет охраны своего человеческого достоинства в отношениях с нами. И как только новую партию смешали со старой, разбив по всем девяти камерам, так этот независимый дух сообщился сейчас же и большинству вновь пришедших.
В новой камере, куда переведены были мы с Штейнгартом, очутилось с нами шестеро новичков. Один из них, Грибский по фамилии, сын мелкого чиновника, где-то, когда-то учился и пришел в каторгу за фальшивые кредитки. В обращении с нами он старался блеснуть книжными оборотами речи, ужимочками и манерами якобы светского пошиба, но за этой внешней полированностью скрывалось самое несосветимое невежество и мелкая душонка. Заветнейшие помышления этого человека вертелись около самой грубой и первобытной клубнички и скоро даже среди арестантов он получил циничную кличку «любителя». Грибский тотчас же внес в камеру такую зловонную атмосферу словесной распущенности, что мы с Штейнгартом то и дело ежились, выслушивая эти бесконечные скабрезные анекдоты, это грязное и извращенное остроумие. Как раз перед появлением «любителя» в нашей камере составился в этом отношении превосходнейший подбор обитателей. Однажды вечером, когда публика была в высшей степени благодушно настроена, Штейнгарту вздумалось предложить ей никогда не произносить, находясь под замком, от вечерней до утренней поверки, ни одного площадного слова. «А кто провинится — тому банки!» — шутливо прибавил я… Вопреки всякому ожиданию, камера приняла предложение с восторгом… К чести большинства ее обитателей надо сказать, что оно и без того отличалось большой воздержанностью на язык и прибегало к циничной ругани лишь в самых исключительных; случаях. Предложение было поэтому направлено главным образом против Чирка. Он тотчас же зачесался по всем направлениям тела, что было у него всегда признаком сильного волнения, и заговорил жалобно:
— И хитрые ж вы, братцы, я погляжу! Сами знаете, что я без этого слова жить не могу… Вам-то легко отвыкнуть, а мне, значит, кажинный день банок придется отведывать? Нет, я не согласен!
И с языка его тут же сорвалось запретное выражение… Тогда Сохатый, Луньков, Ногайцев, Железный Кот, Медвежье Ушко и другие кинулись на него всей оравой и отрубили такие здоровые «банки», что злополучный Чирок орал не своим голосом и клялся и божился, что станет впредь остерегаться… И точно, хотя ему и чаще других приходилось получать банки, но он начал с этих пор, насколько мог, «остерегаться», и камера наша сделалась прямо образцовой по сдержанности на язык. Случалось, что усердные ревнители нравственности отрубали банки даже случайно заходившим к нам обитателям чужих камер…
И вот вся эта воздержанность пошла прахом с появлением шестерых новичков, ни образ мыслей которых, ни характер, ни внутренняя ценность решительно никому не были известны. Аборигены тюрьмы, не успевшие еще сблизиться с новыми товарищами, не только не останавливали их, но и сами начали опять мало-помалу заражаться дурным примером: снова загремела кругом кабацкая брань, снова нравственная атмосфера сделалась душной и нестерпимо смрадной. Что касается «любителя» Грибского, то он, казалось, и не замечал того, что мы с Штейнгартом чувствуем себя в его обществе отвратительно, и продолжал то и дело вступать с нами в беседы, причем держался самым галантным и утонченно вежливым, на его взгляд, образом. Но раз вечером, когда, только что рассказав громогласно один из своих бесчисленных сальных анекдотов, он подошел с самым развязным видом к нашим нарам и задал Штейнгарту какой-то вопрос, последний поднялся, весь дрожа от негодования, и крикнул:
Читать дальше