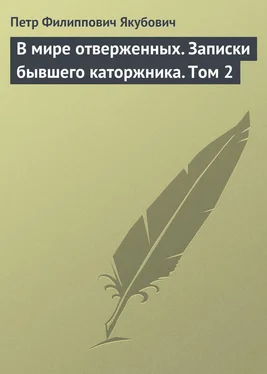— За напрашлину, дедушка, видит бог — жа напрашлину. В чужую вклепали. И все оттого, что — зид. Ограбили церковь в нашем селе. На кого подумать? Конечно, на зида. Сделали у меня обыск и нашли платок какой-то церковный, воздухом зовется… Сам дьявол, видно, подбросил нам! Так мы и до сих пор не знаем с Ентой, как он у нас очутился. А меж тем — улика! Так и пошел на семнадцать лет каторги.
— Жаль тебя, коли не врешь. Да! Оно послушать нас всех, так и ни одного, почитай, виновного не найдется… Перминов вон тоже, говорит, за правду пришел… А уж чего тут! По глазам видно, что либо девку изнасильничал, либо разбойный притон содержал.
— А ты сам, дедушка, за что же попал?
— Я-то?.. Положим, я-то действительно без вины… Да ведь кто поверит? Кто поверит? Суд не поверил, а уж тебе-то аль иному-прочему с какой стати верить? Не люблю я и говорить поэтому зря. Надыть лучше вперед заглядывать. Как бы не вышло потом, что и каторгу еще пожалеешь?
— И очень просто, — подтвердил Борухович, тоже любивший порой пофилософствовать. — Правду рушкая пословица говорит: «что имеем, не храним, потерявши платье»!..
Побеседовав полчаса в таком роде, Николаев, широко зевая и крестя рот и видя, что разговоры начинают притихать по всем углам, тоже направился наконец к своему месту. Там он разостлал на нарах узенький войлочный тюфячок, примостил в изголовье мешок и затем, горячо помолясь на коленях и стукнувшись несколько раз лбом о грязный этапный пол, улегся под арестантскую шубу, накрывшись ею, по крестьянскому обычаю, с головой. Но сон долго не шел к нему.
— О господи, господи, простишь ли слабость нашу? — размышлял старик с сокрушением сердечным. — Не хватило духу с первого раза в вине сознаться, так уж оно и идет, так и до конца идти будет. Вот и жид этот — тоже, надо быть, врет. Беспременно он это церковь ограбил, сказать только боится. Ох-хо-хо! Всякому из нас богачества пуще всего хочется, и вот приуготовляем себе и на земле и на небе ад кромешный. Ну, разве не ад это? Хоть меня же взять. Жил хорошо, пил-ел, одевался как люди, почет имел от чужих, от детей покорность — и вдруг накось! В пучину какую сам себя вверзил! Голова сколько лет бритая была, на ногах бруслеты звякали промеж какого народа жить пришлось, чего-чего не видеть, не слышать… Теперь-то, положим, все уж миновало, на волю иду… Ну, а все уж не то, что прежде, будет! Родного места никогда не увижу, на чужбине в унижении помру, детьми проклятый и забытый… Да. А кусок-то хлеба где на старости лет добуду? Коли и есть какие деньжоньки в поясе да в голенищах запрятаны, так ведь на них однех вся и надежда теперь… А глоты эти и храпы разные, вроде Китаева, асмодеем зовут. Да будь бы у самих у вас шестьдесят три года на шее — что бы вы запели тогда? И чудак же этот Китаев: сыми, говорит, майдан. Партия, мол, большая и с деньгами составится. Ну, да где ж мне, старику, таким делом орудовать? Разоришься только — ничего боле. Оно, допустим, грамотный я и глаза еще зоркие имею. Особливо мудреного ничего я тут не вижу: карт несколько колод запаси, да и следи — зная, сколько партий за ночь сыграли, сколько на твою долю пооиенту причитатся. Да нет! Тьфу-тьфу, прости господи! Пущай сами сымают, мне и думать-то об этом грех!..
На другой день после приемки новой партии оба номера отворили и арестантам позволили разместиться в камерах по собственному желанию. Немедленно из большой камеры в меньшую нахлынула целая толпа тех, у кого не было там места на нарах, и сделалось везде так тесно, как обыкновенно бывает тесно на этапах. И на полу и даже под нарами — везде поместился народ. Шум стоял невообразимый. Махорочный дым и пар от дыхания людей (несмотря на многолюдство, было довольно холодно) застилали воздух с полу до потолка. Большая партия, приехавшая на пароходе из Благовещенска, была самого разносортного и разнохарактерного состава: были в ней и простые безбилетные, отправлявшиеся по этапу на родину, были и осужденные уже по разным делам в каторгу и шедшие теперь в рудники; человек же двадцать должно было еще судиться в Иркутске. Эта последняя группа, состоявшая из людей богатых и нахальных, видимо, верховодила в партии. Красноречивый рассказчик, с которым обратники познакомились вчера сквозь дверную щелку, Красноперов по фамилии, оказался господином лет тридцати пяти, небольшого роста, с очень бледным лицом и пронырливыми карими глазами; одет он был в серый пиджак с жилетом, на котором красовалась золотая цепочка без часов. Он также ехал судиться по делу об ограблении каравана и с явной гордостью заявлял, что ему грозит веревка…
Читать дальше