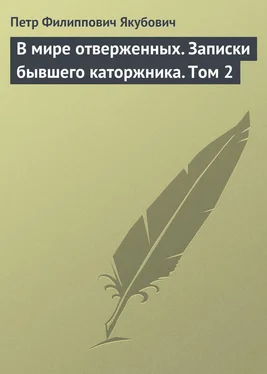Легко, конечно, вообразить, что должен был испытывать бравый капитан. Вначале он был только удивлен, изумлен, ошеломлен и то и дело ощупывал себя, желая убедиться, точно ли он не спит, точно ли все это произошло наяву; но затем чувство изумления сменилось глубокой обидой, пламенным негодованием… Как! Он, честнее которого не было чиновника не только в каторге, но, может быть, и во всей забайкальской администрации; он, который так фанатически был предан идее долга и законности; он, наконец, который в течение четырех лет с такой ревностью и самоотвержением стремился создать образцовую каторжную тюрьму и кое-что сделал-таки, черт возьми, в этом направлении, — он оказывается теперь раздавленным, поруганным, униженным, оплеванным перед лицом всего света, перед собственными своими подчиненными!.. Так позорно принесен в жертву низким и темным силам интриганства, чиновнического формализма! Да стоит ли после этого… ну, если не жить, то по крайней мере служить?!
И с этого дня Лучезаров махнул на все рукою. В ожидании заместителя он сидел дома, никуда не показываясь, не заглядывая даже в контору, хандря и срывая мелкую злобу на тех, кто попадался ему на глаза. Но уже никто его не боялся; были даже случаи, когда домашняя прислуга выказывала явное ослушание и у грозного когда-то капитана не отыскивалось достаточно энергии показать, что власть еще находится в его руках. Он совсем упал духом, а кобылка болтала, что губернатором запрещен ему даже самый вход в тюрьму.
И тюрьма с каждым днем больше и больше распускалась. Надзиратели сквозь пальцы глядели на картежную игру, которая шла теперь по всем углам, причем не ставились даже стремщики. Краснорожий эконом произвел между тем в кухне настоящую революцию, объявив арестантам, что отныне разрешаются частные улучшения пищи и что табак, чай и сахар желающие могут у него же покупать в каком угодно количестве. И, торжествуя и сияя, точно масленый блин, «шепелявый дьявол» открыл тут же в кухне лавочку. Общая арестантская пища очень быстро превратилась в помои, которых нельзя было брать в рот; больные буквально стали голодать, не получая ни хлеба, ни молока. Поэтому праздничное настроение кобылки очень скоро поблекло, и многие, поняв, что променяли кукушку на ястреба, уже начинали вслух высказывать сожаление о старом «прижиме» и о скором уходе Шестиглазого. Когда пронесся откуда-то слух, что он не совсем еще выходит в отставку, а только переводится в Алгачи смотрителем, то некоторые из арестантов, вроде Лунькова и Ногайцева, прямо заявили, что станут проситься о переводе туда же…
Раз вечером неожиданно для всех, во время вечерней поверки, показалась в дверях знакомая фигура бравого капитана. Беспорядочный гам моментально затих, и кобылка выстроилась в некотором испуге и недоумении. Былой помпы, однако, не вышло: дежурный надзиратель произнес слова команды как-то вяло и невнушительно, а сам Шестиглазый вошел, низко опустив голову, грустный и задумчивый, с видом развенчанного властелина. Он, как всегда, впрочем, немедленно разрешил надеть шапки. Но по окончании молитвы вдруг поднял голову, с былой величавостью окинул взглядом ряды арестантов и заговорил:
— Вот что, братцы! Вы знаете, я ухожу…
Голос его слегка дрогнул, однако тотчас же принял обычную твердость и звучность.
— Многие из вас живут здесь со мной уже ровно четыре года. Вместе мы начали поприще, вместе — по крайней мере с некоторыми — и кончаем. Не легкие это были годы. Вы, может быть, думаете, братцы, что только для вас они были трудными, что вы терпели и страдали, а я занимался только тем, что придумывал, кого бы посадить в карцер да наказать? Ошибаются горько те из вас, которые так думают. Каждый из нас делает то, что заставляет его делать избранный раз жизненный путь. Вас судьба сделала арестантами, а меня начальником тюрьмы… Гм! гм… Скажите же по совести, был ли я для тюрьмы врагом, желал ли ей зла? Я поступал всегда по закону и… по своему, конечно, разумению. От закона я никогда не отступал, держась такого правила: взялся служить, так служи честно! Ну и что же я получил за свою службу? Ухожу я отсюда с богатством, которое наворовал у вас? Обласканный начальством? Гм! гм! Награжденный вашей любовью? Нет, я знаю, что вы меня не любили!.. Это вы доказали… Но я знаю также — да, это я знаю! — что, когда я уйду, вы не раз и меня добром помянете… Во всяком случае, если я в чем виноват перед вами, если кто-нибудь… Ну, словом, не поминайте лихом!
Читать дальше