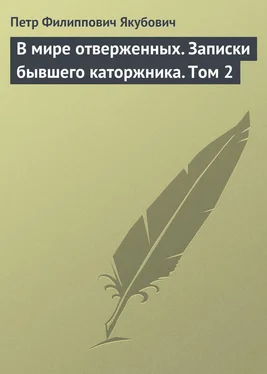Вот эти-то странные приятели и бежали из вольной команды, как только, были выпущены в нее. Побегу Кольярова решительно никто не удивлялся — наоборот, все были бы удивлены, если бы он не бежал: до того для всех было ясно, что побег всегда был его заветной мечтой.
— Ну, а вот тому-то старому черту зачем бежать понадобилось? — недоумевала кобылка относительно Золота. — Разве это человек? Так — «вроде Володи, насчет Кузьмы». Из самого песок сыплется, ноги давно в богадельню просятся, а туда же за Кольяровым вздумал погнаться! Этому что? Стоит только бороду сбрить, так его и в жисть никто не узнает!
Тем не менее оба беглеца точно в землю провалились, и все уже думали, что они давно пробрались благополучно в Россию, как вдруг оказалось, что их привели обратно в тюрьму. Выйдя в больничный коридор и глядя в окно, я увидал, как толпа арестантов с любопытством окружила у тюремных ворот какого-то человека, со смехом выставлявшего вперед бороденку, забавно приседавшего и оживленно хлопавшего себя рукою по ляжке. Это, очевидно, и был Кольяров, хотя нелегко было узнать его: великолепная длинная борода исчезла и заменилась жидким и коротким обрывком. Но где же Золото? Ворота опять распахнулись: силач Огурцов внес в охапке какую-то небольшую ношу и направился с ней к лазарету. «Да неужели же он ранен?» — подумал я с испугом. Но Золото не был ранен — он был только болен. В одну из палат пронесли мимо меня его худенькую фигурку с изможденным потемневшим, лицом, на котором торчала седенькая бородка.
— Добегался! Не станет уж больше бегать! — грубо буркнул, проходя мимо меня, заплывший жиром Огурцов, и я с невольной гадливостью посмотрел на его толстую бычачью шею, лоснящуюся белую кожу широкого круглого лица и железные мускулы рук, глядевшие из-под засученных высоко рукавов рубахи.
Беглецы, оказалось, пойманы были еще два месяца тому назад и доставлены сначала в Горный Зерентуй; но узнавший об этом Шестиглазый потребовал, чтобы их вернули в Шелай, и желание его было исполнено. По дороге Золото простудился и прибыл на место еле живой. При первом же взгляде можно было сказать почти наверное, что бедняга не жилец на белом свете. Однако он и умирал так же тихо и безропотно, как жил, и если бы не ужасающий кашель, вырывавшийся временами из тщедушной груди и потрясавший нервы всем окружающим, то легко было бы забыть о существовании этого странного, молчаливого человека. По целым дням лежал он на своей койке с неподвижно раскрытым взглядом и, казалось, думал… О далекой ли своей «Пiлтавщине», где у него были, может быть, и жена, и дети, и «волы и коровы»? Или о чем другом? Снился ли ему наяву шум родных тополей, сладкий запах вишневых садов и степных трав? Туда ли, на далекую родину, рвалась его упрямая хохлацкая душа, когда он задумал побег из каторги? Кого мог в своей жизни обидеть этот тихий, кроткий человек, по-видимому не способный и мухи убить? За что он попал в каторгу?
Никто, впрочем, и не интересовался никогда этими вопросами. Раз, когда мне показалось, что Золото чувствует себя лучше обыкновенного (он, не кашляя, полусидел на койке и прислушивался к разговорам арестантов), я осторожно приблизился к нему и попробовал заговорить.
— Ну что, получше вам, Золото? Весна на дворе, солнышко пригревать стало…
Старик вздрогнул от неожиданности, но, подняв на меня свои глубоко впавшие, кроткие, словно выцветшие серые глаза, ласково улыбнулся.
— Далеко ль отсюда арестовали вас, Золото?
Не знаю, ответил ли бы он что-нибудь на мой вопрос, (по-видимому, он собирался ответить), но в эту самую минуту к нам подскочил один из словоохотливых тюремных резонеров и отвечал за старика:
— Близко ли, далеко ли удалось уйти, а от своей судьбы все равно никуды не скроешься! Она всегда, значит, тут, за плечами, у нашего брата сидит!
Золото еще раз тихо улыбнулся, должно быть, в знак согласия, и вдруг с ужасной силой закашлялся…
Страшная болезнь медленно, но верно подтачивала слабый организм, и жизнь с каждым днем отлетала. Скоро больной не в силах был даже в постели подняться без чужой помощи.
Раз, в яркий апрельский полдень, входная дверь больницы с шумом распахнулась, и в коридоре появился с двумя надзирателями Шестиглазый; в руках он держал бумагу.
— В которой тут палате Залата?
Ему указали. Приотворив свою дверь, я слышал каждое слово происходившего за стеной разговора.
— Не беспокойся, братец лежи, лежи! — начал бравый капитан необычно ласковым тоном (очевидно, больной силился встать перед начальством, хотя и не мог уже сделать этого). — Э, да ты, я вижу, плох, я думал — тебе лучше. Не надо было бегать, братец, на старости лет, ждал бы себе спокойно конца срока, тем более — манифест мог быть применен. Ну, да теперь ничего уже не поделаешь! Вот я пришел тебе объявить… Лежи же, говорят тебе — лежи! Бумага пришла из управления… Это насчет твоего побега с Кольяровым… Конечно, можно бы и погодить с этим, но… лучше исполнить долг.
Читать дальше