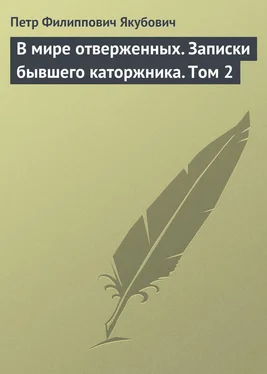Во время выздоровления меня мучило, впрочем, не столько сознание нажитой, быть может, на всю жизнь неприятной болезни, сколько упорное, неотвязное желание припомнить что-то: не то удивительно прекрасный сон, не то открытие безмерной важности для меня самого и чуть ли не для всего человечества. Мне казалось, что, забыв об этом, я утратил неоцененное сокровище, обладая которым стал бы и велик и счастлив, тогда как теперь был жалок, слаб и достоин презрения… Но я долго не мог вспомнить своего странного сна.
Вероятно, не многие из выздоравливающих больных не испытывали того приятного состояния душевного размягчения, когда и люди, и жизнь, и все в мире кажется таким светлым, таким прекрасным, а в собственном сердце чувствуется столько доброты и любви, что надеешься победить с ними все зло и весь мрак вселенной! Я испытывал теперь именно такое душевное состояние; с благодушной улыбкой встречал я даже надзирателей, входивших ко мне во время поверки и тоже, в свою очередь, широко улыбавшихся. Хорошо помню, как первым арестантом, которого я увидал после своего бреда, был повар-поляк Пендраль, круглое, лукавое, заискивающее лицо которого очень мало внушало мне раньше симпатии, но когда теперь лицо это просунулось однажды утром в мою дверь и льстиво-вкрадчивый голос спросил: «Цо пан хочет в обяд — чи зубчик, чи бульон?» — то я чуть не кинулся к этому человеку с распростертыми объятиями, чуть не расцеловал эту плутоватую жирную рожу! Говорить ли после этого, с какими чувствами встречал я навещавших меня испытанных, настоящих приятелей, вроде, например, Кузьмы Чирка.
— Ну, как можешь, Миколаич? — входил он ко мне, всегда радостно осклабляясь. — Слава богу, что поправляешься. Кобылка дюже тебя жалела… Как сказал Митрий Петрович, что, мол, шибко плох ты, так меня, веришь ли, инда слеза прошибла!
До глубины души трогало меня такое отношение ко мне тюрьмы, и мне казалось в эти минуты, что я начинаю припоминать то светлое и прекрасное, что так долго и напрасно усиливался вспомнить; мне казалось, что когда я оправлюсь и вернусь в тюрьму, то стану совсем иным человеком — весь, весь безраздельно отдамся любви к этим трижды несчастным людям, которых судьба послала мне в товарищи. Присев на краешек моей постели, Чирок рассказывал между тем тюремные новости: Сохатый подрался с Милосердовым; Огурцов посажен вчера в карцер, а надзиратель Змеиная Голова женился… Потом он переходил к больному своему месту: в ноябре месяце кончается срок его каторги, но кобылка стращает, что, мол, Шестиглазый ни за что его не выпустит, так как срок ему будто бы увеличен за побег.
— Будешь, говорят, сидеть без срока… Да еще что ведь, подлецы, говорят: в ноябре, говорят, отошлют тебя в Верхнеудинский централ на вечное одиночное заключение!.. Да с какой стати? Разве я отца али мать убил?
— Вы правы, Чирок, — с какой же стати!
— А они говорят, подлецы этакие, душа из них вон, будто от тебя, Миколаич, слышали?..
Я спешу, конечно, уверить Чирка, что никогда и никто ничего подобного не мог от меня слышать.
— Ну и я то же говорю: Миколаич, мол, друг мне, не станет он этак говорить!.. Да и какая может быть набавка, коли под судом я не был и никто мне никакой набавки не объявлял.
— Не объявляли, говорите?
— Вот те крест святой, не объявляли! Дали пятьдесят… Об этом нет спору — дали… Ну, посадили опять в тюрьму — и все тут. Да и побег-то мой вовсе не побегом был зачтен, а простой отлучкой.
В конце концов Чирок уходил от меня утешенный и сияющий… Конечно, впредь до новых застращиваний любившей подшучивать над ним кобылки. Возвращались из рудника горные рабочие, и, наскоро пообедав, ко мне приходили Башуров и Штейнгарт.
— Господа, — обратился я к ним однажды, — объясните мне, пожалуйста… Вот я вспомнил сейчас несколько стихов, по-видимому, не дававших мне покоя во время болезни…
— Это правда, в бреду вы всё какие-то стихи декламировали, — заметил Штейнгарт.
— Стихи звучные и по содержанию очень хорошие, но, хоть убейте меня, не знаю — чьи, откуда. И словно будто страшно знакомое что-то — и невозможно припомнить.
— Да вы, может быть, в процессе бессознательного творчества сочинили? Ну-ка, прочтите, послушаем.
И я прочел:
Лишь бог помог бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольней,
Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней.
Она не знает середины —
Черна, куда ни погляди!
Но не проел до сердцевины
Ее порок…
Читать дальше