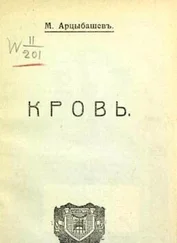— Ну, ну… — примирительно пробормотал Милин.
— Что — ну!.. Прежде чем иронизировать, надо…
— Да будет вам!
— Будет! — никак не успокаиваясь, кипел доктор. — Я человек грубый, опошленный, я уже не могу приходить в восторг, не могу возмущаться, не могу плакать от умиления, а кто бросил первый ком грязи в мою душу? Вот это самое неземное создание, к которому вы требуете рыцарского благоговения.
Доктор помолчал, возмущенно фыркая и сопя носом.
— Ну, вы остановились… — осторожно заметил я.
Доктор еще раз негодующе пожал плечами, но, видимо пересилив себя и решив, что сердиться не стоит, продолжал:
— Ну, ладно… Так вот… Первые дни моего пребывания в доме профессора привели меня в положительный восторг… Весенняя природа, цветущий сад, гениальный человек, такой простой и милый, прелестная молоденькая женщина, грациозная девочка-все это было так красиво, что мне, вышедшему из грубой, пошлой мещанской среды, где люди ругались и дрались походя, казалось, будто я попал в какой-то особенный мир, полный сверкающего счастья. «Вот какими должны быть все люди!» — думал я с восторгом, когда, бывало, оставался один в своей комнате и слушал жаркое щелканье соловьев в залитом лунным светом саду. Ночь с ее соловьями, лунным светом, звездами и синим небом окружала меня со всех сторон, и вся эта ночная красота как-то бессознательно сливалась во мне с образом молодой женщины, которая только что со смехом крикнула мне в темноту сада: покойной ночи!
Опять-таки повторяю, никаких греховных, так сказать, мыслей не было во мне… Где там! Я искренно верил, что женщина, которая имеет счастье быть любимой таким необыкновенным человеком, не может даже и заметить меня, ничтожного студента, ровно ничем не замечательного. Я только, засыпая, грезил о возможности когда-нибудь стать достойным другой такой женщины. Я был молод, такая возможность не казалась мне несбыточной!
И жизнь доказала это, но как!.. Не я поднялся к ней, она опустилась ко мне. И как грубо, грязно, пошло!.. И, когда я достиг того, о чем мечтал с таким чистым восторгом, оказалось, что не о чем было и мечтать, нечему было молиться!..
Прошло недели две с тех пор, как я поселился у профессора.
Однажды, когда я с прогулки пришел к обеду, меня поразило странное настроение, которое царствовало за столом: профессор казался растерянным, Ниночка глядела испуганно, почти не подымая глаз от тарелки и только изредка робко и умоляюще взглядывая на мать… Лицо Лидии Михайловны, которую до сих пор я всегда видел неизменно веселой и прелестной, меня испугало: у нее были красные пятна на щеках, небрежно распустившиеся волосы, сухой, злобный, как у хорька, взгляд.
Профессор торопливо заговорил со мной о брошюре Каутского, которую он дал мне вчера, но видно было, что ему не до меня и мое присутствие болезненно его стесняет. Обед прошел скучно и подавленно. Лидия Михайловна все время молчала, нервно дергая тарелки и отрывисто обращаясь к прислуге… Я заметил, что, когда подали суп, — который всегда разливала она сама, первую тарелку подавая мужу, — профессор взглянул на нее так, точно боялся, что она не подаст ему тарелки при мне, постороннем человеке… Этот страх был очень характерен и многое открыл мне в настоящих их отношениях. Мне стало больно и стыдно за них, я невольно потупился. Было ясно, что они поссорились, поссорились, как ссорятся самые обыкновенные, пошлые супруги, какие-нибудь чиновники и чиновницы, и это было так неожиданно для меня, что сделалось грустно, словно я утратил что-то драгоценное.
Несколько раз профессор пробовал заговорить с женой, но она упорно молчала, делая вид, что не замечает его попыток. Он усиливался шутить, чтобы я не заметил, а я видел все и страдал за него, за нее, за бедную Ниночку и за себя, вдруг упавшего с высоты в болото!..
После одной какой-то шутливой фразы мужа Лидия Михайловна вдруг встала, оттолкнула тарелку и, уже совсем не сдерживаясь, вышла из-за стола.
Я постарался не заметить этого и не поднял глаз. Профессор смешался, но справился и сказал:
«Лида немного нездорова… У нее очень расстроены нервы…»
И при этом лицо у него было красно, а глаза смотрели так, точно умоляли поверить.
Я ушел к себе в тяжелом недоумении, долго валялся на кровати, курил и думал, что Лидии Михайловне все-таки следовало бы помнить, что я человек посторонний, и не делать меня свидетелем семейных историй. Не зная причины ссоры, я инстинктивно почувствовал, что вся вина на ее стороне, и, вспоминая последний умоляющий взгляд профессора, с жалостью говорил себе: «Какой деликатный, мягкий человек!.. Какая большая душа!..»
Читать дальше