Михаил Арцыбашев
Повести и рассказы
I
Перед закрытой желтой дверью приемной полицмейстера, в маленькой грязной передней с давно не крашенным полом, опершись спиной о вешалку, стоял рябой малорослый полицейский солдат в перепачканном пухом и мылом и разорванном под мышкой мундире.
Вид у этого солдата был самый смиренный и глупый, но это не помешало ему изобразить на своей физиономии начальственную строгость, когда в переднюю вошел посторонний.
Этот посторонний, попавший в комнату, куда посторонним вход строго воспрещается иначе как в указанное, от двенадцати до трех часов, время, был юноша в худой гимназической шинели и такой же фуражке. Роста он был среднего, большеголовый, с некрасивым, но довольно симпатичным лицом; на щеках и верхней губе его вполне ясно обозначался неровный пух усов и бороды. Он был красен и, видимо, возбужден.
Вошел он очень быстро, точно за ним кто гнался, и, войдя, сейчас же снял шапку.
– Здесь приемная полицмейстера? – спросил он так громко, как будто давно приготовил этот вопрос в такой именно громкой и решительной форме.
– Здеся, – ответил солдат, с видимым неудовольствием покидая свое занятие и отделяясь от вешалки.
«И чего шляются, – подумал он, – сказано: от двенадцати до трех, ну и нечего… только народ беспокоят!..»
– Сюда пройти? – так же громко и решительно спросил гимназист, делая движение к запертой двери приемной.
– Сюда. Да только они не принимают, – ответил солдат, загораживая дверь.
– Мне нужно.
– Пожалте от двенадцати до трех, – равнодушно сказал солдат и потянулся рукой к своему носу.
– Мне сейчас нужно.
– Не приказано пущать.
Гимназист как-то весь осел и замялся, обескураженный этим ничтожным и неожиданным препятствием, сбивавшим его с того торжественного, важного и печального пути, который представлялся ему, когда он ехал сюда. Этот равнодушный и неряшливый солдат так не вязался с его представлением, что одну секунду он едва не вышел из передней. Но в дверях остановился, побагровел и выпалил:
– Мне надо заявление: я человека убил!
– Чего-с? – глупо спросил солдат.
И гимназист молчал и смотрел на солдата, и солдат, выпучив глаза и глупо ухмыляясь, смотрел на него.
– Пожалте… – наконец сказал солдат, сомнительно качнув головой, толкнул дверь в приемную и посторонился.
Гимназист надел зачем-то фуражку, но сейчас же снял ее и вошел. Солдат тупо поглядел ему в спину.
II
В большой светлой комнате, украшенной портретами лиц царской фамилии, находились в это время четыре человека: сам полицмейстер, видный, представительный мужчина с большими усами и перстями на пальцах, его помощник, толстый человек с большим животом и багровой физиономией, с трудом ворочающейся на короткой шее без кадыка, и пристав, высокий, худой, чахоточный, на узких плечах которого мундир и шашка висели как на вешалке. Четвертый был господин в вицмундире с форменными пуговицами, с большой рыжей бородой и синими очками на кончике толстого угреватого носа. Он перебирал бумаги на столе у самого окна, стоя и через плечо прислушиваясь к тому, что говорил полицмейстер.
А полицмейстер, сидевший лицом к входной двери, облокотясь обеими руками на стол, покрытый зеленым сукном, рассказывал, смеясь и жестикулируя, как дочь одного часового мастера-еврея, захваченная облавой на проституток, несмотря на уверения отца, что она «еще совсем дитю», оказалась беременной.
– Ха-ха-ха, совсем дитю! – беззаботно смеялся полицмейстер, и его здоровый корпус, туго затянутый в полицейский мундир, колыхался во все стороны.
Помощник, который вообще никогда ничего не чувствовал, кроме своей толщины, страдал от жары и скуки, хотя и улыбался, когда смеялся полицмейстер.
Пристав как палка стоял перед ними и тоже улыбался, хотя ему было тяжело стоять, потому что он был слабый и больной человек. Он смотрел на здорового, сильного, вкусно смеющегося полицмейстера, перед которым должен был стоять, с ненавистью и злобой, не смея, конечно, прервать его никому не нужную, праздную болтовню напоминанием о принесенной им срочной бумаге.
Секретарь же, который терпеть не мог полицмейстера за его грубость и бурбонство, слушал его с наслаждением, потому что сегодня узнал из верных уст, что конец полицмейстерской карьеры близок. Об этом ему говорили в канцелярии губернатора, как о решенном деле, тогда как сам полицмейстер, очевидно, ничего не подозревал.
Читать дальше
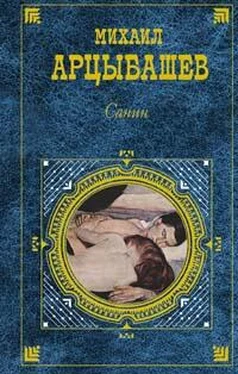





![Михаил Коршунов - Девять возвращений [Повести и рассказы]](/books/389258/mihail-korshunov-devyat-vozvrachenij-povesti-i-rass-thumb.webp)
![Михаил Шаламов - Серая хризантема [Фантастические повести и рассказы]](/books/392498/mihail-shalamov-seraya-hrizantema-fantasticheskie-po-thumb.webp)

![Михаил Алексеев - Да поможет человек [Повести, рассказы и очерки]](/books/413480/mihail-alekseev-da-pomozhet-chelovek-povesti-rassk-thumb.webp)


