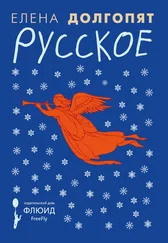Собственно, это не ваш взгляд на лодку, а мой. Это я ее видела. За моей спиной текла Волга.
Дождь только что прошел.
Песок.
Лодка.
Низкое небо.
У меня в руках фотоаппарат. Я встала на колени и сняла то, что видела. Но это обман. Я сняла что-то другое. В этом чудо. Снимаешь то, что видишь, а выходит что-то другое. То, что видит ОН.
Другое дело, что в одних руках ОН видит, а в других совершенно слеп. Существует масса таких снимков, как будто их слепые снимали. Ради Бога, смотрите, что у вас в кадре. Действуйте четко, быстро и внимательно. Щелчок затвора... А ведь недаром и у фотоаппарата затвор, и у оружия огнестрельного - затвор. И там нужно навести на цель, и здесь.
Это давно замечено. В старину некоторые люди отказывались сниматься. Думали, что их душа переходит в снимок, а они остаются без души, пустые, как бы мертвые. Но чтобы душа все-таки перешла, чтобы запечатлелась, надо первое - навести на цель; второе - спустить курок вовремя. Что значит вовремя?
Весь мир - бесконечно сложная цепь, которая в тот момент, когда вы нажимаете на кнопку, когда аппарат ваш прозревает, смотрит, видит, замыкается. В мировой цепи происходит короткое замыкание, все разрушенные связи восстанавливаются на миг. Как это ни странно звучит, как будто на миг, только на один миг восстанавливается справедливость. Все приходит в равновесие на один миг. Наступает - на один миг - райское блаженное состояние первобытной связи всего со всем, всеобщего родства, неразрывности, нерасчлененности.
Я не знаю, так ли это есть на самом деле, но я так чувствую.
Как бы то ни было, на этом снимке душа запечатлена. Душа лодки? Душа песка? Душа невидимой реки? Душа невидимой меня? Лодка после дождя в серебряных песчинках. Ах, как видна ее тяжесть и будущая - в воде легкость. Ах, как чувствуется близость большой реки.
Ну и так далее. И так далее. И тому все подобное.
Так я им попробую сказать сегодня на первом нашем занятии. Начало - в девять утра. Сейчас - четыре. Я не могу уснуть. Лежу под двумя одеялами и мерзну. Мне уже двадцать два года. Но вчера вечером, оставшись одна в этой комнате, я плакала... по дому. Я чувствую себя сиротой. Тишина здесь неимоверная. Даже не верится, что тысяча детей рядом.
Я приехала вчера днем. Встретилась в первую очередь с начальником. У него просторный светлый кабинет с предбанником. За компьютером сидит секретарша, которая совершенно не вяжется со всем строем этого фантастического учреждения. Она кажется вульгарной. Впрочем, она не произнесла при мне ни одного слова. Возможно, у нее не вульгарный голос. Это бы все искупило.
Начальник был очень любезен. Встал мне навстречу, пожал руку. Придвинул стул. Не сел, пока я не села. Попросил у секретарши чаю и не соединять ни с кем во время беседы. Одет, разумеется, в форму. Полковник. Но очень домашнего вида. Как и все здесь. Несмотря на колючку, прожектора, охрану.
Он внимательнейшим образом прочитал направление, где излагалась суть моего будущего исследования.
- Так вы психолог! Вот как! Вот бы вы насовсем к нам пришли работать. У нас ведь нет психолога, а как бы пригодился!
Затем он начал мне рассказывать про ребят, с которыми я столкнусь.
- Есть и бродяги, - сказал он. - И воришки. И убийцы. Но здесь они не убийцы, не бродяги и не воришки. Здесь они - дети. Их прошлого здесь не существует.
И дальше:
Они здесь ненадолго. На время, пока государственная машина разберется, что с каждым из них делать - кого в колонию, кого в детдом, кого в интернат для слабоумных. Людям, которые здесь работают, все равно, что было с этими детьми в прошлом. За их будущее они тоже не отвечают. Они отвечают лишь за их короткое - очень короткое - настоящее. Стараются, чтобы в этом настоящем им было хорошо, кто бы они ни были.
Кроме прочего, своеобразие этого учреждения вот еще в чем: на одном полюсе (обслуживающий персонал - учителя, врачи, повара, охрана) текучки кадровой практически нет. Люди приходят работать и остаются на всю жизнь, до смерти. На другом, детском полюсе - сплошная текучка. В силу специфики учреждения - временного пристанища, перевалочного пункта.
Начальник оказался философ.
Я сказала, что дети здесь в отличие от детей Достоевского не только мученики, но и мучители. У Достоевского дети абсолютно невинны. Здесь они преступники, грешники. В этом - интерес. Мой интерес.
- Ничего не доказано, - сказал он.
- Что?
- Ничего не доказано насчет преступлений. Пока они здесь, во всяком случае. Здесь они не преступники. Это потом, после.
Читать дальше