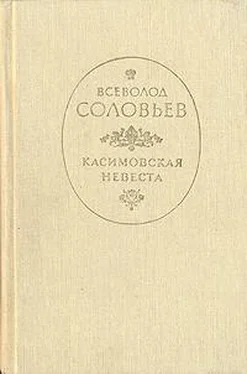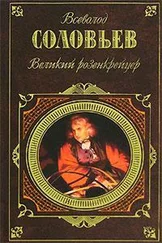Алексей Михайлович оживлялся все больше, а Морозов его внимательно слушал.
– Нынче ехали мы из Покровского, спрашивал ты меня, Иваныч, что со мною? не болесть ли какая во мне?… Здоров я, а пожалуй, есть и болесть во мне. Иной раз дивное со мной деется; говорю – сирина слышу! Вот и теперь, сейчас будто пение такое сладкое, а где оно – не ведаю… Что это, Иваныч? не опоили ли чем уж?
Морозов покачал головою.
– Ничем тебя не опоили, государь, – сказал он, – мы всегда с тобою, при тебе верные люди, чтобы блюсти твое здоровье. Успокойся, все это пройдет, мало ли что бывает с человеком, а не спится тебе, потолкуем, благо у меня есть о чем и речь держать.
Легкая, лукавая улыбка скользнула по лицу Морозова.
– Ну что? Говори, я слушаю, – медленно произнес Алексей Михайлович, снова опускаясь на подушки. Его оживление пропало.
Морозов придвинул тяжелое кресло к самой кровати, покойно уселся в него, погладил себе бороду и начал:
– Царь-государь Алексей Михайлович, питомец ты мой дорогой! Скоро время идет, и не видишь, не чуешь, как оно проходит; только иной раз, как очнешься да вспомянешь старое – и сколько, сколько прошло его! Давно ли был ты дитя малое, давно ли у меня на коленях еще сиживал, и я тебя величал не государем батюшкой, а Алешей, царевичем своим. Прошло то время – словно в сказке какой; не по дням, а по часам возрос ты, возмужал – и волею Господнею ныне ты царь великой земли русской. И по милости Господа и по нашим грешным молитвам долгие, долгие годы будешь ты царить и править землей Русской. А и к тебе придет старость, и придет час смертный. И кажный-то из нас – и старец, и юноша – должен помышлять об этом, а ты сугубо помышлять должен, ибо смерть государей может великим быть бедствием для целого народа. Покойный родитель твой, – Морозов перекрестился, – отходя ко Господу, немало печаловался, что оставляет тебя в столь юном возрасте. Разумеешь ли, к чему я речь клоню?
Но Алексей Михайлович еще не разумел. Он только начинал все внимательнее и внимательнее слушать.
– А речь, – продолжал Морозов, – я клоню к тому, что пора тебе, государь, жениться. Раньше женишься, раньше сынок у тебя будет, наследник желанный. Успеешь сам ты его вырастить да внучат дождешься. Так ли говорю? По нраву ли речь моя?
Морозов совсем уже теперь улыбался и зорко глядел на юношу. Густая краска залила щеки Алексея Михайловича, он опять сбросил с себя одеяло и приподнялся.
Жениться! До сих пор он и не думал об этом, но теперь это слово показалось ему вдруг таким странным, таким волшебным. Он почувствовал необыкновенное смущение и в то же время радость.
– Жениться! – прошептал он. – Да на ком же, Иваныч?
– На ком? – повторил Морозов. – Я невесту еще не припас тебе, государь. Да за невестой дело не стало: вся земля русская тебе поклонится. По исконному обычаю повели собрать красных девиц со всех мест Русской земли да и выбирай себе любую.
– Да ведь я… я… ведь, пожалуй, бояре смеяться будут, скажут, что я еще не вырос! – робко и смущенно прошептал царь.
– Бояре уже давно толкуют, что тебе пора жениться.
– Ты это правду молвишь? – оживленно спросил Алексей Михайлович и, не дождавшись его ответа, прибавил – Так как же им скажу? Мне как-то неладно да и стыдно сказать, что хочу жениться.
– Чего стыдиться! Святое дело, Божье дело, и не твоя это забота. Коли есть на то твой приказ, государь, так все и будет как следует. Завтра же оповещу бояр о твоем изволении, и отправим мы людей надежных по всем городам земли русской – звать на Москву лучших девиц честных родом, для твоего, для царского выбора. Изволишь ли, государь?
– Да! – прошептал Алексей Михайлович, еще больше краснея и не глядя на Морозова.
Долго не мог заснуть в эту ночь молодой царь под наплывом неясных и сладких грез. Заснул, и во сне ему привиделась чудная птица сирин, и пела та птица сладкогласные песни, и звала его, и манила…
Недалеко от города Касимова, в большом селе Сытове, на третий день Рождества был торг.
С самого утра широкая улица, еще накануне вся занесенная снегом, но теперь почерневшая, представляла непривычное в селе движение. По обеим сторонам ее были настроены шалаши, где продавались всякие товары, главное: калачи, мясо и пироги, а также холсты, полотна, сукна, зимние полушубки и обувь.
Вокруг этих шалашей толпился люд всякий – крестьяне и крестьянки в праздничных нарядах. На особо устроенном месте были выведены десятка с три лошадей, коров и другой домашней скотины. Здесь женщин уже не было видно: толкались и торговались одни мужчины. Торг часто заканчивался не только крупной бранью, но и сильнейшей потасовкой. В течение одного утра более десятка мужиков были выволочены отсюда по домам все в крови, с вырванными клочьями бород; двое из них уже и померли. Если сделка кончалась мирно, то продавец и покупатель направлялись к стоящему тут же кружечному двору и принимались за хмельное.
Читать дальше