«Без дороги» (1894) – повесть итогов пережитого и передуманного. В ней В. Вересаев окончательно определился и как художник. Это отповедь поколению, «ужас и проклятие» которого в том, что «у него ничего нет». «Без дороги, без путеводной звезды оно гибнет невидно и бесповоротно…»
Повесть написана в форме дневника молодого врача Дмитрия Чеканова – страстная исповедь человека, пережившего иллюзорные мечты о служении народу и не сумевшего претворить их в жизнь. Он отказался от научной карьеры, от обеспеченною и уютного дома, бросил все и пошел на земскую службу. Земское начальство невзлюбило гордого и независимого доктора, и он «должен был уйти, если не хотел», чтобы ему «плевали в лицо». Нелюбовь начальства можно бы и пережить. Трагедия Чеканова в том, что он осознал бесплодность пути, избранного им: его деятельность и деятельность подобных ему подвижников мало что меняла в положении народа, который, привыкнув ненавидеть барина, отвечал Чекановым недовернем и глухой враждебностью. «Я только обманывал себя „делом“; в душе все время какой-то настойчивый голос твердил, что это не то, что есть что-то гораздо более важное и необходимое, но где оно? Я потерял надежду найти». Больной туберкулезом, сломленный и растерявшийся, мечется Чеканов по жизни, не находя применения своим силам. И когда газеты принесли вести о катастрофическом распространении холерной эпидемии, он отправился на борьбу с нею. Чеканов уже не верит в народнические басни о просветительной работе среди народа, с помощью которой якобы можно коренным образом улучшить его жизнь, не верит в спасительную силу «малых дел». Он просто истомился бессмысленным своим существованием, просто не мог сидеть сложа руки, когда темные и забитые трудовые люди России бедствовали, он пошел «в самый огонь навстречу грозной гостье», может быть, навстречу смерти. Второй поход Чеканова «в народ» коренным образом отличается от первого: иллюзии были позади, никаких надежд на будущее, это был скорее шаг отчаяния, свидетельство краха всего, во что верил, чему поклонялся. Вторая часть повести, рассказывающая о борьбе с холерой в Слесарске, доказывает это со всей очевидностью. Несмотря на самоотверженную работу Чеканова, связанную порой с риском для жизни, народ в массе своей ни в коей мере не проникается гуманистическими идеалами честных интеллигентов, хуже того: он видит в них своих врагов. Символичен конец Чеканова: избитый толпой, одинокий и отчаявшийся, герой умирает.
Повестью «Без дороги» В. Вересаев опровергал беспочвенные верования народников в «природную революционность» русского мужика, в святую миссию интеллигенции, призванной повести за собой крестьянство на слом существующего социального строя. Изобличение прожектерского характера программы народников было тем убедительнее, что героем явился человек, неспособный на компромиссы, неспособный на сделки с совестью, человек большого ума и сердца. Он предпочитает смертельно опасную дорогу обывательскому благополучию (герои «Товарищей», жившие, кстати, в том же Слесарске, поступили по-иному). Но если даже такие люди, как Чеканов, теряли веру в будущее, то, значит, программа, которой они хотели руководствоваться в своей деятельности, никуда не годилась.
В повести «Без дороги» В. Вересаев рассчитывался не только с народническими иллюзиями, но и с недавними собственными. Гаврилов из повести – это отчасти вчерашний В. Вересаев, только Гаврилов недавние смутные чаяния В. Вересаева превратил в стройную программу и тем самым довел их до логического конца. Он ненавидит общество, построенное «на крайне ненормальных отношениях», спокойно и безбедно живущее трудом голодного народа. Он мечтает, чтобы господа сумели «возвыситься до идеи… слиться с народом и прийти к нему на помощь, как брат к брату». А ликвидировать «крайне ненормальные отношения» и эксплуатацию народа, по-видимому, можно живым примером «уважаемых в городе людей», надо лишь получше убедить этих, «уважаемых», «пригласить к себе в дом три-четыре нищих семьи, поселить их здесь, кормить, поить и обучать» – словом, «братски разделить с обиженными свой дом, стол, всё». Подобный почин обязательно «найдет подражателей» – и все бедствия уничтожатся разом.
Может быть, и не в такой наивной форме, но В. Вересаев чуть раньше Гаврилова тоже рассчитывал на морально-этические пути преобразования общества. В повести же писатель заклеймил их как «карикатурно убогую… программу». И это был второй, чрезвычайно значительный итог идейных исканий автора «Без дороги».
Читать дальше
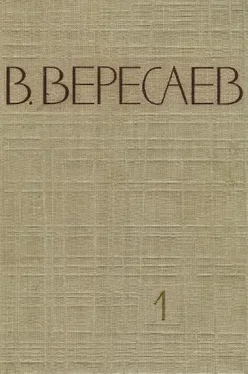
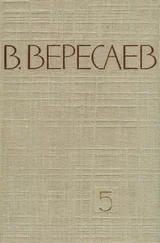
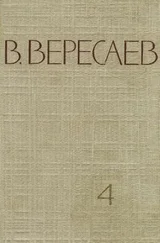

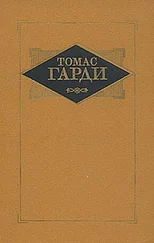
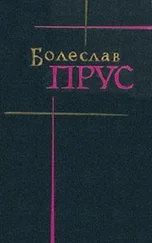
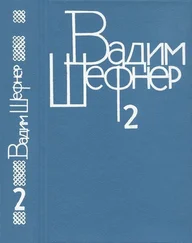


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/214506/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)
