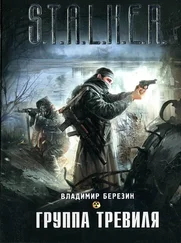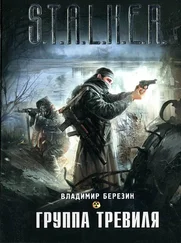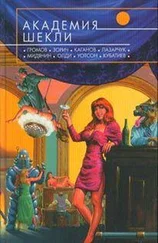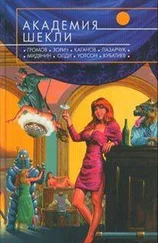Мы все время воюем, но я не хочу воевать. - Не убежден я, - тоскливо приходилось отвечать мне, - что нужно испытывать из-за этого именно чувство стыда, может быть, какое-то другое чувство... - Все равно, то, что происходит, убеждает меня, меня, а не тебя в собственной подлости. Мы живем на прожиточном минимуме подлости - не делать подлостей больше, чем нужно. - Везде это одинаково, все везде, - говорил я, но нечего мне было возразить, незыблема была его позиция. Но и не к чему было спорить, однако общественная вина чужда мне, вина, мне казалось, всегда персональна. В том, что говорил Редис, все же они были "они", а мы - были "мы". Слова его шелестели, как осенние листья, еще не сорвавшиеся с дерева. Кому нужно нас с кем-то сравнивать? Все это прописные истины; о том, о чем мы говорили, все уже сказано. Нельзя сказать, что я слушал вранье, поклеп, брюзжание, но это и не было правдой. В любом слове - и моем, и его - была лишь часть правды, и говоря лишь "да" или "нет", мы лишь увеличивали объем вранья. Говоря лишь "да" или "нет", каждый, будь то я или он, включал свои слова в контекст времени, и могло показаться, что он или я присоединяемся к тем или другим людям, сказавшим по этому же поводу что-то раньше. Все были виноваты, и виноватых, как всегда, - не было. Редис смотрел на узкий участок асфальта, свободный от ног стоявших рядом и говорил, говорил, говорил. - Здесь просто испорчена раса. На протяжении поколений естественный отбор происходил таким образом, что выживали лишь худшие особи, которые обладали наиболее отвратительными качествами. Жизнь в России развращала, здесь выживал только тот, кто мог жить подлее, злее и хитрее другого. Те, кто оказывался честнее и лучше - просто вырезались или их выгоняли из страны. Короче говоря, здесь порода людей другая. Мы стояли в толпе, состоявшей из людей другой породы. Визжала девушка, на которую пролилось неловко откупоренное кем-то шампанское. Стелился в пасхальной ночи запах духов и сигаретного дыма. Колокол на церкви перестал звонить, и толпа вокруг пришла в движение. - ...Вот дочь моя взяла кошку, - продолжал Редис. - Кошка с улицы, ее приучить гадить в туалете нельзя, потому что для нее естественно жить на помойке. Это естественно для кошки, так и для этой страны совершенно естественное состояние - жить на помойке. И мы к этому привыкли. Улучшить это изменением способа правления нельзя, помойка воспроизводит сама себя... Мимо нас проходили красивые девушки со свечками, мальчики с пивными банками, даже невесть откуда в этой молодежной толпе взялась старуха с клюкой. - Спасти Россию можно только улучшая племя - все время скрещивать нас с высшей расой, европейской, американской, или вывезти отсюда как можно больше людей и заселить все это пространство американцами, немцами и французами. Тогда, в течение нескольких поколений, здесь что-то, может, и улучшится. И я делаю все, что могу, для этого. Моя дочь не будет жить на помойке. "Зачем он все это говорит? - с тоской думал я, - Ведь мы так давно знаем друг друга. Мы даже знаем все, что может сделать каждый из нас и что он может сказать". И вдруг я понял - Редису стало страшно. Он твердил свои обвинения стране, как молитву, как заклинание, чтобы не остаться в последний момент. Что я мог возразить? Я был свидетелем всего того, о чем шла речь, и не мог отпираться. Я был свидетелем, а не экзекутором. У Редиса была своя правда, а я любил его, и сердце ныло, ныло, ныло, хотя не первый разговор я вел на эту тему и, видно, не последний. - Зайдешь? - спросил он наконец. - У меня грибочки есть, вкусненькие. - Нет, - сказал я. - Пойду домой. Удачи тебе. И мы с облегчением пожали друг другу руки - нечего душу травить. Я уходил, не оглядываясь, и скоро свернул на большую ярко освещенную улицу и пошел мимо блестящих в огнях машин и напряженных проституток. Среди них отчего-то было много негритянок, и я без раздражения думал: откуда в моем городе взялся этот табун чернокожих девушек? Наступила праздничная неделя. На девятое мая пришел к моему хозяину боевой товарищ - в нелепом зеленом мундире без погон, но с воротничком-стоечкой, откуда торчала стариковская морщинистая шея, пришел, брякая медалями. Старики позвали меня к себе. Мой старик не надел орденов, а положил их перед собой на стол. Орденов было мало, всего два, но эти два - Слава третьей степени и Красная Звезда - были честными солдатскими орденами, и ими действительно можно было гордиться. Колодка ордена Славы была замусолена, явно его владелец таскал его долго, может, с самого сорок третьего, когда их, эти ордена, начали давать.
Читать дальше