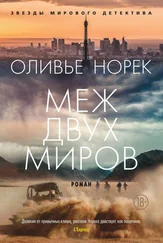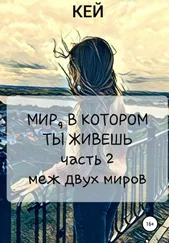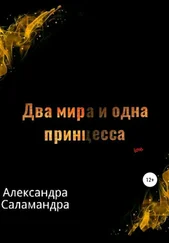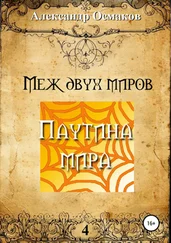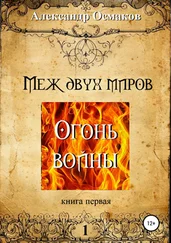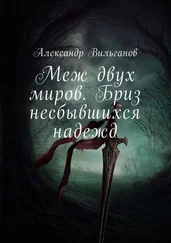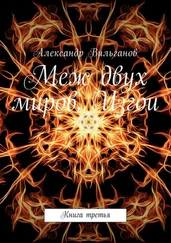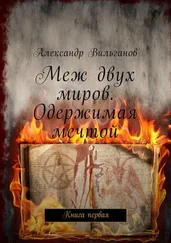Не станем утверждать, что писатель сделал такое использование ситуативных сравнений нормативным или хотя бы - преобладающим.
Конкретные формы, в которые выливался интерес Чехова к подобным конструкциям, по-прежнему были разнообразны.
По-своему интересный образчик ситуативного оборота дает рассказ "Страдальцы" (1886): "Лизочка, одетая в белоснежный чепчик и легкую блузку, лежит в постели и смотрит загадочно, будто не верит в свое выздоровление" [С.5; 268].
Сравнение здесь активно взаимодействует с контекстом и участвует в создании образа - молоденькой, манерной и пошленькой дамочки. Именно это взаимодействие наполняет гипотетическую часть оборота вполне конкретным и вполне достоверным смыслом.
Куда сложнее обстоят дела в другом сравнительном обороте, также характеризующем героя, из рассказа "Талант" (1886):
"Художник выпивает рюмку, и мрачная туча на его душе мало-помалу проясняется, и он испытывает такое ощущение, точно у него в животе улыбаются все внутренности" [С.5; 278]. Необычное и явно фантастическое предположение, вызывающее яркий, комический образ. Он не рассчитан на создание картины. Автор ставит перед ним довольно узкую задачу: передать физиологическое ощущение героя на первой стадии опьянения.
Между тем картина все же возникает. Не очень отчетливая, не очень конкретная, но - возникает. С.55
Все дело в том, что "преобладание визуальных представлений составляет характерную черту нашего обращения с языковым материалом".
Вообразить, увидеть внутренним зрением описанное в гипотетической части этого ситуативного сравнения, во всех анатомических подробностях, довольно трудно. Образ получается размытым. На переднем плане оказывается несколько абстрактная улыбка, подобная улыбке Чеширского Кота.
В сравнении использована метафора. Это и делает образ подчеркнуто субъективным, далеким от общечеловеческого опыта.
Но данный опыт, сочетаясь с индивидуальным опытом читателя, прежде всего участвует в восприятии. Наиболее репрезентативной в данном отношении оказывается улыбка. Поэтому она и доминирует в смутной картине, складывающейся в сознании. Образ в целом близок к иероглифическому.
По справедливому замечанию Б.М.Гаспарова, "иероглифическому образу свойствен абстрагированный, мимолетно-схематический облик; он выглядит не как запомнившийся или воображаемый конкретный предмет, но скорее как намек на такой предмет".
И вот такой намек на анатомические детали, а также - их "улыбку" и возникает в сознании читателя, приобретая несколько смутные, размытые зрительные формы.
Иногда и подчеркнуто бытовые картины, благодаря ситуативному сравнению, приобретают фантастический оттенок.
Подобное наблюдается в рассказе "Нахлебники" (1886): "Подходила Лыска робко, трусливо изгибаясь, точно ее лапы касались не земли, а раскаленной плиты, и все ее дряхлое тело выражало крайнюю забитость" [С.5; 283].
Гипотетическая ситуация также рисует здесь картину, далекую и от реальности, и от созданной писателем художественной действительности.
То же обнаруживается в описании старой лошади: "Она вышла из сарая и в нерешительности остановилась, точно сконфузилась" [С.5; 283].
Обычная бытовая картина совмещается со сказочной, вполне допускающей проявление человеческих эмоций у животных.
Мера правдоподобия (или неправдоподобия), а также соответствия реалиям художественного мира тех картин, которые привносятся в текст гипотетической частью ситуативного сравнения, могла быть различной. Как и мотивировка этой меры.
Наиболее просты случаи, когда ситуативные сравнения выполняют привычные функции, закрепленные за этой формой литературной традицией.
В рассказе "Первый любовник" (1886) встречаем два варианта традиционного использования таких конструкций.
Вот первый из них:
"Климов заходил из угла в угол молча, как бы в раздумье или нерешимости" [С.5; 291]. С.57
Союзное сочетание "как бы" маскирует истинное положение дел, не прямо, в предположительной форме, указывая на действительную "нерешимость" героя.
Другой вариант: "Jeune premier повертелся, поболтал и с таким выражением, будто он не может более оставаться в доме, где его оскорбляют, взял шапку и, не прощаясь, удалился" [С.5; 291].
В данном случае ситуативный оборот передает стремление героя создать видимость того, о чем говорится в гипотетической части, то есть изобразить "оскорбленное достоинство".
Разумеется, Чехов не был изобретателем таких форм. Они использовались и до него, в литературе и обиходной разговорной речи. Но - в довольно узком спектре возможностей, как правило - в двух только что показанных вариантах. Именно с них началось чеховское изучение данного приема. Но для писателя было характерно очевидное намерение расширить спектр, даже в случаях, когда он вроде бы не покидал пределы этих традиционных двух разновидностей. В их рамках Чехов намечает "подвиды" ситуативных сравнений.
Читать дальше

![Станислава Вертинская - Меж двух миров [СИ]](/books/414672/stanislava-vertinskaya-mezh-dvuh-mirov-si-thumb.webp)