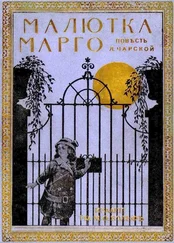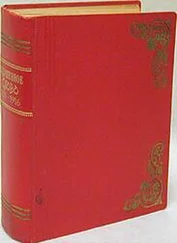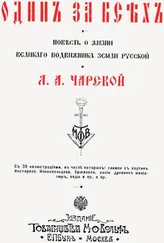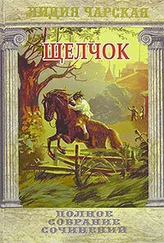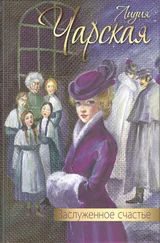Лидия Чарская
Двое и один
Тогда старые ветлы вздрагивали над прудом и таинственно, по-осеннему, шуршала аллея.
Тогда была осень и большой немного запущенный, тенистый сад Нагорного, медленно умирал в её грустном оцепенении. Тогда была осень, когда три женщины с заплаканными глазами и с припухшими веками отправляли их на войну. Но как давно, как мучительно давно это было! Тогда шуршали мертвые листья в аллеях старого сада, и багровели пышные закаты на горизонте через море убранных полей… Теперь белая пелена снега покрывает эти поля, и от прозрачно-хрустального, как дорогой темный аквамарин, осеннего неба, осталась какая-то туманная сероватая грусть.
И пустынная, всегда тихая усадьба Нагорного сейчас вся в снегу, вся опушенная белой пудрой инея, как красивая таинственная зимняя сказка.
Три женщины темными призраками скользят по высоким неуютным комнатам бесшумной походкой с пытливым вопросом, застывшим одинаково в трех парах глаз молодых и старых. Иногда сталкиваются у окон, в ожидании почтаря Ефима. И когда показывается у крыльца его нескладная, в ветхом зипуне, юркая фигура, мать первая бросает глухим, надорванным голосом:
— Должно быть от Андрюши. Дай Господи, чтобы от него! Он так давно уже не писал нам…
И смолкает тотчас же, встречая на себе злые, враждебные глаза старшей дочери, беременной Александры.
— Почему от Андрея, а не от Всеволода? Андрей отдыхает, вы же знаете. Их полку дали временную передышку. Значит не в опасности. А Сева по двадцать дней не выходит из окопов… Вы же читали…
И в ту же минуту на Сашу злобно накидывалась горбатая Эля.
— Удивительно! то есть удивительно, какую чушь ты несешь… Ну да, твой Сева в окопах… Под защитой, а Миша все последнее время бьется в Карпатах… в Карпатах, понимаешь? Это не окопы и не тыл… Господи! Как подумаешь только, что он в самом сердце незнакомой чужой страны; что каждую минуту они могут… Их могут…
Эля не договаривает, всхлипывает истерично и бурей выносится на крыльцо.
— Платок возьми! Платок! — кричат ей вслед две другие: — простудишься, Эля… Тебе нельзя…
Но Эля ничего не слышит. Её изуродованная горбом фигура, с прекрасной кудрявой головкой излюбленного типа Греза, с глазами сверкающими горячо, как звезды, уже на крыльце. Вместе со старым Никитой, доживающим восьмой десяток здесь на покое, собственноручно роется в сумке почтаря. И если попадается желанный конвертик со штемпелем действующей армии, бегло вскидывает глаза на почерк адреса. От Миши? Всеволода? Андрея? И если письмо от Михаила, вздрагивает всем телом и вскрикивает, вся загоревшаяся восторгом.
— От Миши… От Миши…
Но если письмо от зятя, мужа сестры Саши, или от брата Андрея, машет издали, высоко подняв конверт над головой по направлению окон дома. И две прильнувшие к стеклам женские головы торопят ее оттуда знаками, волнуясь, страдая и негодуя…
Три женщины, старая мать и две дочери еще недавно так нежно и утонченно чутко относились друг к другу. Была на редкость дружная семья. Как-то стойко и бодро переносили ниспосланное в семью несчастие.
Нянька в детстве выронила маленькую Элю из окна, скрыла это из страха, и результатом катастрофы явился безобразный горб на спине у девочки. Но этот горб не портил прелестного личика, с тонкими выточенными чертами, с глубокими всегда ярко горящими черными глазами, с целым богатством пышных вьющихся по плечам кудрей, и характер Эли всего менее пострадал от её несчастия. Она осталась и калекой тем же милым жизнерадостным ребенком, каким была раньше. И только с тех пор, как ушел на войну её жених, товарищ Андрея, их троюродный брат Михаил Кирьянов, Эля круто и резко изменилась к худшему.
— Ужасно, ужасно чувствовать свое бессилие! — говорила она: ужасно бездействовать, когда там все. Все, по мере сил и возможности, отдают себя общему делу. И одна я только ничтожная, бесполезная, глупая, никому ненужная, копчу небо… Сижу сложа руки, когда там одни проливают свою кровь за родину, другие спасают от смерти тех героев, уходом за ними, и только я, я одна ничтожество, тля, мерзость ничегонеделания, ограничиваюсь чтением газетных известий. Мама! Саша, не неужели вы не видите, как это несносно!
Страстью отчаяния веяло от этих слов, от этого безысходного молодого горя. Оно разряжалось бурно, остро, мучительно. Кудрявая головка падала на стол, маленькие бледные пальчики впивались в густые каштановые кудри, и Эля рыдала на весь дом глухими, потрясающими все тело, всю душу, рыданиями.
Читать дальше