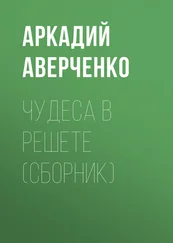Страшный Юноша, Аптекарѣнокъ, переваливаясь, по дошелъ ко мнѣ на тихой вечерней улицѣ и спросилъ своимъ тихимъ, полнымъ грознаго величія голосомъ;
— Ты чиво тутъ дѣлаешь, на нашей улицѣ?
— Гуляю… — отвѣтилъ я, почтительно пожавъ протянутую мнѣ въ видѣ особаго благоволенія руку.
— Чиво жъ ты гуляешь?
— Да такъ себѣ.
Онъ помолчалъ, подозрительно оглядывая меня.
— А ты за кѣмъ стрядаешь?
— Да не за кѣмъ.
— Ври!
— Накарай меня Госп…
— Ври больше! Ну? Не будешь же ты здря (тоже словечко) шляться по нашей улицѣ. За кѣмъ стрядаешь?
И тутъ сердце мое сладко сжалось, когда я выдалъ свою сладкую тайну:
— За Кирой Костюковой. Она сейчасъ послѣ ужина выйдетъ.
— Ну, это можно.
Онъ помолчалъ. Въ этотъ теплый нѣжный вечеръ напоенный грустнымъ запахомъ акацій, тайна распирала и его мужественное сердце. Помолчавъ спросилъ:
— А ты знаешь, за кѣмъ я стрядаю?
— Нѣтъ, Аптекарѣнокъ, — ласково сказалъ я.
— Кому Аптекарѣнокъ, a тебѣ дяденька, — полушутливо, полусердито проворчалъ онъ. — Я, братецъ ты мой, стрядаю теперь за Лизой Евангопуло. А раньше я стрядалъ (произносить я вмѣсто а — былъ тоже своего рода шикъ) за Маруськой Королькевичъ. Здорово, а? Ну, братъ, твое счастье. Если бы ты что-нибудь думалъ насчетъ Лизы Евангопуло, то…
Снова его уже выросшій и еще болѣе окрѣпшій жилистый кулакъ закачался у моего носа.
— Видалъ? А такъ ничего, гуляй. Что жъ… всякому стрядать пріятно,
Мудрая фраза въ примѣненіи къ сердечному чувству
* * *
12 ноября 1914 года меня пригласили въ лазаретъ прочесть нѣсколько моихъ разсказовъ раненымъ, смертельно скучавшимъ въ мирной лазаретной обстановкѣ.
Только что я вошелъ въ большую, уставленную кроватями палату, какъ сзади меня, съ кровати послышался голосъ:
— Здравствуй, фрайеръ. Ты чего задаешься на макароны?
Родной моему дѣтскому уху тонъ прозвучалъ въ словахъ этого блѣднаго, заросшаго бородой раненаго
Я съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на него и спросилъ
— Вы это мнѣ?
— Такъ-то, не узнавать старыхъ друзей? Погоди попадешься ты на нашей улицѣ, — узнаешь, что такое Ванька Аптекарѣнокъ.
— Аптекаревъ?!
Страшный Мальчикъ лежалъ передо мной, слабо и ласково улыбаясь мнѣ.
Дѣтскій страхъ передъ нимъ на секунду выросъ во мнѣ и заставилъ и меня и его (потомъ, когда я ему признался въ этомъ) разсмѣяться.
— Милый Аптекарѣнокъ? Офицеръ?
— Да.
— Раненъ?
— Да. (И, въ свою очередь): Писатель?
— Да.
— Не раненъ?
— Нѣтъ.
— То-то. А помнишь, какъ я при тебѣ Сашку Ганнибоцера вздулъ?
— Еще бы. А за что ты тогда "до меня добирался"?
— А за арбузы съ баштана. Вы ихъ воровали и это было нехорошо.
— Почему?
— Потому что мнѣ самому хотѣлось воровать.
— Правильно. А страшная у тебя была рука, нѣчто въ родѣ желѣзнаго молотка. Воображаю, какая она теперь…
— Да, братъ, — усмѣхнулся онъ. — И вообразить не можешь.
— А что?
— Да вотъ, гляди.
И показалъ изъ-подъ одѣяла короткій обрубокъ.
— Гдѣ это тебя такъ?
— Батарею брали. Ихъ было человѣкъ пятьдесятъ. А насъ, этого… Меньше.
Я вспомнилъ какъ онъ съ опущенной головой и закинутой назадъ рукой, слѣпо бросался на пятерыхъ, — и промолчалъ.
Бѣдный Страшный Мальчикъ!
* * *
Когда я уходилъ, онъ, пригнувъ мою голову къ своей, поцѣловалъ меня и шепнулъ на ухо:
— За кѣмъ теперь стрядаешь?
И такая жалость по ушедшемъ сладкомъ дѣтствѣ, по книжкѣ "Родное Слово" Ушинскаго, по "большой перемѣнѣ" въ саду подъ акаціями, по украденнымъ пучкамъ сирени, — такая жалость затопила наши души, что мы чуть не заплакали.
123

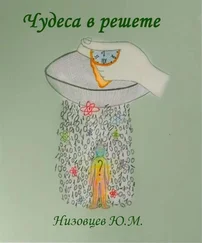


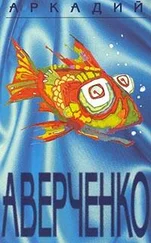

![Владимир Сухинин - Чудеса в решете [СИ litres]](/books/434364/vladimir-suhinin-chudesa-v-reshete-si-litres-thumb.webp)