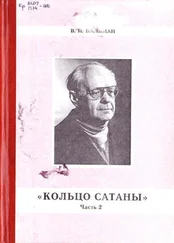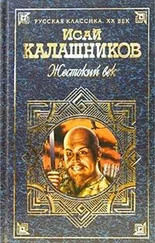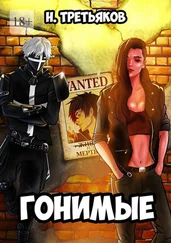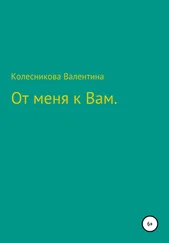Пытаясь успокоить общественное мнение и как-то оправдать аресты, в статье делался такой акцент: "Показания тех, кои пойманы с оружием в руках, и открытие Тайного общества, издавна готовившего себя к возмущению, принудили правительство взять под стражу многих более или менее известных людей"; непричастным к заговору будет "немедленно возвращена свобода", а "главных, истинно злоумышленных мятежников ожидает примерное наказание". Целью публикации было утверждение, что "заговорщики" - это "грабители" и "цареубийцы", т. е. дискредитация декабристов, а также подготовка общественного мнения России и Европы к той жестокой расправе, которая ждала участников восстания.
В состав Следственного комитета после ряда перестановок вошли военный министр А.Н. Татищев (председатель), петербургский генерал-губернатор П.В. Голенищев-Кутузов, действительный статский советник А.Н. Голицын (единственный штатский член комитета), дежурный генерал Главного штаба А.П. Потапов, генерал-адъютанты А.Х. Бенкендорф, И.И. Дибич, В.В. Левашов, А.И. Чернышев, великий князь Ми-хаил Павлович. Правителем дел комитета был назначен военный советник военного министра А.Д. Бор-овков. Помощниками правителя дел (они не были членами комитета) назначались флигель-адъютант полковник В.Ф. Адлерберг и чиновник 9-го класса (титулярный советник) А.И. Карасевский (он ведал всей исходящей и входящей перепиской комитета).
Первое заседание Следственного комитета состоялось 17 декабря 1825 года "пополудни 61/2 часов".
"Слушали: Именный Высочайший Указ, данный на имя военного министра в 17-й день декабря об учреждении Тайного комитета для изыскания соучастников возникшего злоумышленного общества к нарушению государственного спокойствия.
Положили: приступить немедленно к исполнению сей высочайшей воли".
Так был запущен состоящий из сановной и военной аристократии следственный механизм1. "Особенной задачей Комитета, - писал впоследствии декабрист А.М. Муравьев, - было представить нас всех царе-убийцами: этим бросался намек хулы в настроение толпы, которая слушает, а не рассуждает".
Общую характеристику членам Следственного комитета дал другой декабрист - А.В. Поджио: "Эти люди были людьми своего русского времени; люди, взросшие, созревшие под влиянием узкого, одностороннего, государственного тогда военного духа. Они служили верным отпечатком того времени, вместе славного и жалкого! Все являли в себе все противоположности, все крайности образовавшихся тогда характеров об-щественных. Одностороннее, исключительное, поверхностное военное образование, при условии непременной отчаянной храбрости, второстепенного честолюбия, грубого обращения с низшими и низкопоклонства с старшими".
Пожалуй, ни одно из воспоминаний декабристов не обошел горький и гневный рассказ о том, как вел следствие "высочайше учрежденный комитет", который они определили полузабытым, да и не бытовавшим на Руси словом "инквизиция". В.И. Штейнгейль: "Слуги нового властителя всегда бывают чрезмерно усердны в угодливость порывам гнева его: и рвать готовы. В XIX веке Комитет генерал-адъютантов, вмещавший царского брата, принял обряды инквизиции".
Рассказывает М.А. Фонвизин:
"Обвиняемые содержались в самом строгом заточении, в крепостных казематах и беспрестанном ожидании и страхе быть подвергнутыми пытке, если будут упорствовать в запирательстве. Многие из них слышали из уст самих членов Следственной комиссии такие угрозы. Против узников употребляли средства, которые поражали их воображение и тревожили дух, раздражая его то страхом мучений, то обманчивыми надеждами, чтобы только исторгнуть их признания.
Ночью внезапно отпиралась дверь каземата, на голову заключенного накидывали покрывало, вели его по коридорам и по крепостным переходам в ярко освещенную залу присутствия.
Тут по снятии с него покрывала члены комиссии делали ему вопросы на жизнь и на смерть и, не давая времени образумиться, с грубостью требовали ответов мгновенных и положительных, царским именем обещали подсудимому помилование за чистосердечное признание, не принимали никаких оправданий, выдумывали небывалые показания, будто бы сделанные товарищами.
Кто же не давал желаемых им ответов по неведению им происшествий, о которых его спрашивали, или из опасения необдуманным словом погубить безвинных, того переводили в темный и сырой каземат, давали есть один хлеб с водою и обременяли тяжкими ручными и ножными оковами.
Читать дальше