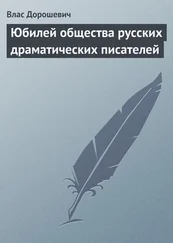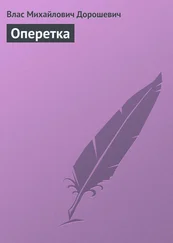Почти всю прошлую зиму я прожил в Германии.
— Провёл в стане врагов! — как сказал бы я, если бы был военным или фабрикантом.
(Ещё вопрос, кто нынче воинственнее: военный или русский фабрикант).
Я жил в Висбадене, шумном и весёлом летом, тихом и немножко печальном зимою.
Когда я уставал от его гор, зимою словно золотистым плюшем покрытых пожелтевшею травою, от его серебряных аллей из покрытых инеем деревьев, — я уезжал во Франкфурт-на-Майне.
В богатый Франкфурт, застроенный колоссальными магазинами, настоящими дворцами из железа и стекла, — в старый Франкфурт, где сохранились ещё во всей неприкосновенности узенькие, кривые средневековые полутёмные улички и закоулки.
Во Франкфурт, где родился Гёте. Во Франкфурт, где родился Ротшильд. В родной город Берне, в родной город Шопенгауэра. Где стоит памятник Гуттенбергу и, словно святыня какая-то, хранится дом, в котором родился «первый Ротшильд», — или Ротшильд I, как вам будет угодно.
После театра я сидел в пивной Allemania, ел франкфуртские сосиски, читал шестое, вечернее, издание «Франкфуртской Газеты», пил со знакомыми немцами чудное пильзенское пиво и торжественно произносил:
— Prosit! [1] Prosit — обычный тост при употреблении алкогольных напитков.
Среди моих добрых знакомых был некто Мюллер, учитель гимназии. Случайно, разболтавшись, мне пришлось узнать его историю, и с этой минуты герр Мюллер и его семья захватили всё моё внимание.
Передо мной была, типичная современная немецкая семья.
В то время университетский вопрос волновал всю Россию, и я как-то сказал, что очень хотел бы познакомиться с жизнью знаменитейшего германского университета — гейдельбергского.
— А! Гейдельберг! Вы должны отправиться туда весною! Как хорошо там! Как чудно хорошо! — воскликнул седой Мюллер.
И всё лицо его, всегда немножко печальное и угрюмое, просияло.
— Если бы вы знали, как там хорошо!
— А вы гейдельбергского университета?
— Да. Я из Гейдельберга!
И он улыбнулся доброй и радостной улыбкой, какой улыбаются хорошие старики своей счастливой юности.
— Мы из Гейдельберга, — подтвердила и фрау Елизабет, жена Мюллера.
Они чокнулись, и Мюллер кивнул мне головою:
— Мы из Гейдельберга! Мы из университета!
Имя Гейдельберга наполнило их сердца нежностью, нахлынули хорошие воспоминания, захотелось откровенности, и дорогой, когда я провожал их до дома, старики рассказали мне свою историю.
— Фрау Елизабет, — тогда белокурая Лизхен, — была дочерью профессора германской литературы.
— Это был великий человек! Большой и благородный ум! Какие широкие идеи носились в его голове!
Но профессор с широкими идеями всё же мечтал для хорошенькой Лизхен не иначе, как об очень хорошей партии.
Бедняк-студент и будущий «несчастный учитель» не входил в его планы.
Когда Лизхен заикнулась отцу о своей любви к буршу Мюллеру, — старик просто и кротко сказал:
— Глупости!
Но однажды, после студенческой пирушки, на которую в качестве почётного гостя был приглашён и старый профессор германской литературы, случилось неожиданное происшествие.
Кругом молодые голоса пели старые студенческие песни. И старик, вдохновлённый, взволнованный, подтягивал им своим дребезжащим голосом. Для него эти песни звучали, как гимн, как молитвы молодости.
В профессоре проснулся старый студент.
Было поздно. Мюллер пошёл провожать его домой.
Старик шёл молча. Вдруг остановился, повернул Мюллера так, чтоб ему в лицо светила луна, и сказал:
— Мальчишка! Ты и Лизхен любите друг друга?
Дрожащий Мюллер отвечал ему:
— Да!
— Идём ко мне. Я благословлю тебя и мою дочь!
«Глаза старика горели, как звёзды», говорит Мюллер.
— Мне не надо зятя торгаша-богача.
Моя жена пошла в своё время за такого же бедняка, как ты! Во имя моей молодости благословляю вас!
«Голос старика звучал торжественно, как голос жреца», говорит Мюллер.
— Мюллер! Но ты должен дать мне за это клятву. Клянись, что ты никогда не будешь торгашом, всегда останешься учителем.
«Это было ночью, кругом было тихо, как в церкви, звёзды горели, — говорит Мюллер, — и при свете их я встал перед стариком на колени и, подняв руку к великому, святому небу, твёрдо и громко сказал ему:
— Клянусь!»
— С тех пор мы с Лизхен прожили тридцать пять лет — и сохранили завет великого наставника. Сколько мне ни предлагали афер, я остался учителем! — закончил свой рассказ Мюллер.
Читать дальше