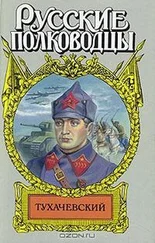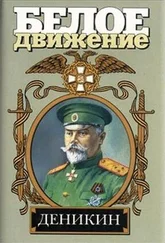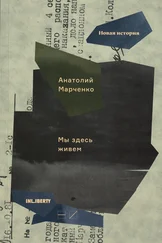Жутко вспомнить, до чего доходит в карцере человек от голода. Выхода в зону ждешь больше, чем конца срока. Даже общая лагерная полуголодная норма кажется в карцере небывалым пиром.
Жутко вспоминать, как сам голодал. Еще страшнее сознавать, что вот сейчас, когда я пишу об этом, в карцерах голодают мои товарищи...
Томительно ползет время между завтраком и обедом, между обедом и ужином. Ни книг, ни газет, ни писем, ни шахмат. Два раза в день проверка, до и после обеда получасовая прогулка по голому дворику за колючей проволокой вот и все развлечения. Во время проверки надзиратели не торопятся: считают заключенных в каждой камере, пересчитывают, сверяются с числом, поставленным на доске. Потом начинается тщательный осмотр камеры. Надзиратели большими деревянными молотками выстукивают стены, нары, пол, решетку на окне - не подпилены ли прутья, нет ли подкопа, не готовят ли зэки побег из карцера. Проверяют, нет ли каких надписей на стенах. Во время проверки все мы должны стоять, сняв головные уборы - я еще расскажу, для чего это нужно.
Во время тридцатиминутной прогулки можно сходить в уборную. Однако, если в камере человек двадцать, успеть трудно: уборная на двоих. Выстраивается очередь, снова тебя торопят:
- Скорей, скорей, время кончается, нечего рассиживаться. - Не успел - в камере есть параша. А в уборную больше не выпускают, будь ты хоть старик, хоть больной. Днем в камере духотища, вонь. Ночью даже летом холодно: барак каменный, пол залит цементом, строят карцер специально так, чтобы там было холодно и сыро. Нечем накрыться, нечего подстелить, кроме бушлата - его, как и все теплое из одежды, отбирают перед тем, как посадить в карцер, и выдают только на ночь.
Нечего и думать взять с собой в карцер что-нибудь из продуктов или курева хоть на ползатяжки, бумагу, грифель от карандаша - все отберут при обыске. Тебя самого, скинутое тобой белье, брюки, куртку прощупают насквозь.
Ночью, с десяти вечера до шести утра, лежишь, скорчившись, на нарах. В бок впивается железная полоса, сквозь щели между досками тянет от пола сыростью, холодом. И хотел бы уснуть, чтобы хоть во сне забыть о сегодняшних мучениях, о том, что завтра повторится то же самое, - но никак не уснешь. А встать, побегать по камере нельзя - надзиратель в глазок увидит. Промаешься, ворочаясь с боку на бок, чуть не до света, только задремлешь - стук в дверь, крики:
- Подъем! Подъем! На оправку!
Срок в карцере ограничен - не более пятнадцати суток. Но это правило начальнику легко обойти. Вечером выпустят в зону, а на другой день снова посадят, еще на пятнадцать суток. За что? Всегда найдется, за что: стоял в камере, загораживая глазок; подобрал на прогулке окурок на две затяжки (кто-нибудь из друзей перебросил из зоны через запретку); грубо ответил надзирателю. Да новые пятнадцать суток просто так, ни за что дадут. Потому что если на самом деле возмутишься, если дашь себя спровоцировать на протест - то получишь уже не пятнадцать суток карцера, а новую судимость по указу.
В Караганде меня однажды продержали в карцере сорок восемь дней, выпуская только для того, чтобы зачитать новое постановление о "водворении в штрафной изолятор". Писателю Юлию Даниэлю в Дубровлаге дали два карцерных срока подряд за то, что он "грубил часовому". Это было совсем недавно, в 1966 году.
Некоторые не выдерживают нечеловеческих условий, голода, и калечат сами себя: авось, положат в больницу, и хоть на неделю избавишься от голых нар, от вонючей камеры, получишь более человеческое питание.
Пока я сидел в камере, двое зэков проделали следующее: отломали от своих ложек черенки и проглотили; потом, смяв каблуком черпачки, проглотили и их. Этого им показалось мало они выколупали из окна стекло и, пока надзиратели отпирали дверь, успели проглотить по нескольку кусков стекла. Их увели, и я их больше не видел, слышал только, что их оперировали на третьем, в больнице.
Когда зэк режется, или глотает проволочные крючки, или засыпает себе глаза битым стеклом - сокамерники обычно не вмешиваются. Каждый волен распорядиться собой и своей жизнью, как хочет, каждый вправе прекратить свои мучения, если не в состоянии их вынести.
Одна камера в карцере обычно заполнена голодающими. Решил зэк в знак протеста объявить голодовку, написал заявление - начальнику лагеря, в ЦК, Хрущеву, все равно кому, это не имеет никакого значения, а просто без заявления голодовка "не считается", хоть подохни, не евши, - и перестал принимать пищу. Первые дни никто на его голодовку и внимания не обращает; через несколько дней - иногда через десять-двенадцать - зэка переводят в отдельную камеру к другим таким же и начинают кормить искусственно, через шланг. Сопротивляться бесполезно, все равно скрутят, наденут наручники. В лагере эта процедура еще более жестока, чем в следственной тюрьме: два-три раза "накормят", - так и без зубов можешь остаться. И кормят не питательной смесью, как меня в Ашхабаде, а той же лагерной баландой, только пожиже, чтобы шланг не засорить. В камере дают баланду чуть теплую, а при искусственном питании стараются дать погорячее. Знают, что это верный способ погубить желудок.
Читать дальше