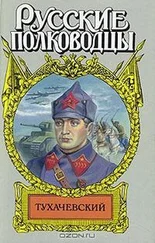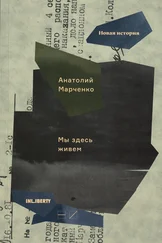Из строгого, стройного храма
Ты вышла на визг площадей...
— Свобода! — Прекрасная Дама
Маркизов и русских князей.
Свершается страшная спевка, —
Обедня ещё впереди!
— Свобода! — Гулящая девка
На шалой солдатской груди!
Марина Цветаева
Кто уцелел — умрёт, кто мёртв — воспрянет.
И вот потомки вспомнят старину:
— Где были вы? — Вопрос как громом грянет.
Ответ как громом грянет: — На Дону!
— Что делали? — Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.
Марина Цветаева

Часть I
ЗА ЕДИНУЮ И НЕДЕЛИМУЮ

Бури-вьюги, вихри-ветры вас взлелеяли,
А останетесь вы в песне — белы-лебеди!
Знамя, шитое крестами, в саван выцвело.
А и будет ваша память — белы-рыцари.
И никто из вас, сынки! — не воротится.
А ведёт ваши полки — Богородица!
Марина ЦВЕТАЕВА
Из записок поручика Бекасова:
 орошо помню, будто это было вчера: в окно крошечного кабинета председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликса Эдмундовича Дзержинского врывалось утреннее весеннее солнце, и потому даже то обстоятельство, что я приехал на Лубянку в сопровождении двух чекистов, не вызывало в моей душе тревоги. Напротив, как это всегда бывает весной, у меня появилась надежда, что ничего необычного, а тем более трагического, в моей судьбе не произойдёт.
орошо помню, будто это было вчера: в окно крошечного кабинета председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликса Эдмундовича Дзержинского врывалось утреннее весеннее солнце, и потому даже то обстоятельство, что я приехал на Лубянку в сопровождении двух чекистов, не вызывало в моей душе тревоги. Напротив, как это всегда бывает весной, у меня появилась надежда, что ничего необычного, а тем более трагического, в моей судьбе не произойдёт.
Впрочем, едва я ощутил на себе пронзительный взгляд испытующих, словно насыщенных магнетизмом глаз Дзержинского, эта надежда сменилась знобящим ожиданием какой-то решительной перемены в моей жизни. Выбор был невелик: или после продолжительного, а может, и короткого допроса я буду арестован как бывший офицер, уличённый в каких-либо грехах, или же мне предстоит пройти через тяжелейшие, если не драматические испытания, предсказать которые я, естественно, не мог хотя бы потому, что никогда не ощущал в себе качеств провидца.
Дзержинский вышел из-за стола, прямой как жердь, сделал шаг навстречу и, не спуская с меня внимательных глаз, протянул длинную худую руку. Я пожал её осторожно, но всё же ощутил, что узкая ладонь его была холодна, будто он только что прикладывал к ней лёд. Теперь я видел его лицо настолько близко, что мне стало страшно: я уже был достаточно наслышан о суровости и беспощадности этого человека. Это было лицо аскета, и, несмотря на то что взгляд его был непроницаем, я уловил в нём скрытый фанатичный блеск. Сдержанность была лишь проявлением его воли, а следовательно, проявлением внешним: я был убеждён, что в душе этого необычного человека, не утихая, полыхает огонь самых противоречивых чувств.
— Садитесь, — сухо предложил он и вновь занял своё место за столом в самом обыкновенном канцелярском кресле.
Несмотря на то что на улице весеннее тепло уже потеснило стужу, в кабинете Дзержинского было холодно, будто в нём до сих пор сохранялся зимний воздух. И потому я не удивился, что на председателе ВЧК была шинель внакидку. Когда он подходил ко мне, я заметил, что шинель эта — из грубого солдатского сукна и доставала ему почти до пят. Он походил в ней на кавалериста.
Усаживаясь, я обратил внимание на то, как был обставлен кабинет. Ничего даже отдалённо похожего на роскошь, какую я видел в кабинетах иных советских чиновников, даже значительно более низких по рангу, чем председатель ВЧК, не было. На сравнительно небольшом столе — металлическая чернильница в форме конуса, рядом с ней — массивное пресс-папье. Чуть поодаль — шарообразная пепельница из керамики и настольный календарь. В кабинете было два телефона: один размещался на столе, другой висел на стене таким образом, что даже сидя можно было, протянув руку, достать трубку. Ещё на столе лежало почему-то два коробка спичек: один рядом с пепельницей, а другой у правой ладони хозяина кабинета.
До того как я вошёл, Дзержинский, видимо, что-то писал: рядом со стопкой простой бумаги лежала обыкновенная деревянная ученическая ручка с металлическим пером.
Читать дальше
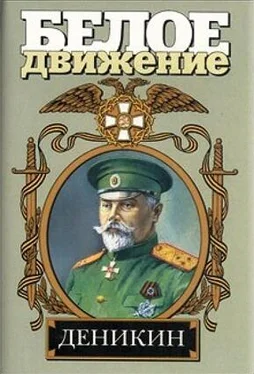



 орошо помню, будто это было вчера: в окно крошечного кабинета председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликса Эдмундовича Дзержинского врывалось утреннее весеннее солнце, и потому даже то обстоятельство, что я приехал на Лубянку в сопровождении двух чекистов, не вызывало в моей душе тревоги. Напротив, как это всегда бывает весной, у меня появилась надежда, что ничего необычного, а тем более трагического, в моей судьбе не произойдёт.
орошо помню, будто это было вчера: в окно крошечного кабинета председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликса Эдмундовича Дзержинского врывалось утреннее весеннее солнце, и потому даже то обстоятельство, что я приехал на Лубянку в сопровождении двух чекистов, не вызывало в моей душе тревоги. Напротив, как это всегда бывает весной, у меня появилась надежда, что ничего необычного, а тем более трагического, в моей судьбе не произойдёт.