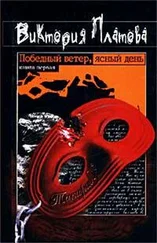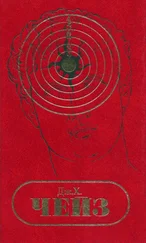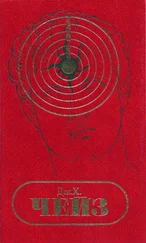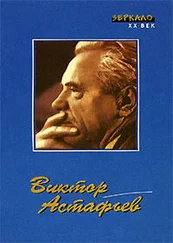Ждала их, пожалуй, целые годы.
А возвратились всего часа через четыре - веселые, точно такие же, как и были.
- Ой, мама, там такого наговорили!.. - всплеснула руками Яринка. - И меня немного упрекали, ей-богу, ругали, что плохо выучила ту книжечку... ну, программу... еще и устав... Сказали, если б другого, так домой завернули б... чтоб учил как следует... И теперь у нас на селе своя комсомольская ячейка... Павлина, и Карпо Антосин, и Крикун, и Митя Петрук, и я. И будем свое дело делать - помогать партийным, чтоб новая жизнь... чтоб люди коммуной жили.
- Ну, ты гляди! - притворно восхищалась София. А сама внимательно присматривалась к дочери - ее ли это ребенок, не подменили ли? Да, это была-таки ее родная кровь, и, в благодарность за то, что все осталось, как было, София окончательно восприняла ее как дочь - разве не одинаково мать любит дитя, что случайно стало калекой!.. Еще сильнее.
- Ну иди, иди! - протянула она руки, чтобы снять ее с телеги. - Ну иди же, доченька, причудливое мое несчастьице!
И это было так естественно, так искренне, что Степан залюбовался и мимоходом чмокнул жену в щеку.
- Ну, вот... А ты гвалт подняла... Все как надо. Так и должно было быть.
И та кутерьма, учиненная было Софией, сейчас показалась ей такой ненужной, глупой, что решила для себя больше ни в чем не прекословить ни мужу, ни дочке. Окончательно поклялась. Ведь это же муж! Ведь это же дочка!
Ей хотелось подставить бока Степану - на, бей, виновата, но он так доброжелательно и снисходительно покрикивал на нее, когда переносили все с подводы в хату, что женщина воспринимала это как кару более суровую, чем если бы Степан отлупцевал бы ее. И Павлина стала ей такой родной, что, подражая мужу, София тоже покрикивала на нее - без злости, по-хорошему, как на ребенка в большой крестьянской семье. И та принимала это как должное и так же беззлобно огрызалась - на правах близкой родственницы и работницы на семейной толоке.
И куда-то в самые темные уголки памяти ушли все, кто тревожил переимчивую душу Софии, - и сваты Титаренко, и другие родичи по ним скрипучие и недобрые Баланы. И хотя их не стало, поисчезали, как злые духи после третьих петухов, больше не чувствовала себя одинокой, будто все село сошлось в ее хате - род ее и племя.
"Если умру, то не иначе как на пасху!.."
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ, в которой Иван Иванович Лановенко еще не
знает, заслонит ли он кого-нибудь собою
Мокрые куры устроились у самой хаты, стряхивают с головок капли воды, падающие с крыши, сжались, пригнулись все, будто их собираются ловить. Только красноватый петух прохаживается отдельно, бодрится, красуется перед своим гаремом выдержкой. Смело шагает в канавку, выбитую каплями со стрехи, время от времени разгребает когтями плотную мокрую землю, приглашает своих возлюбленных закусить червяком, что, потревоженный, скручивается в кольца и распрямляется, как пружина.
Вот уже третий день идут дожди. Это те, непрошенные, под которые сено скошено. Буйная зелень без солнца кажется мрачной и недоброй. От одного взгляда на нее становится на душе холодно и неуютно.
По серой мути низкого неба проплывают, как призраки, грязные с расплывающимися очертаниями чудовища-тучи. Раскисшие улицы, покрытые серыми рябинами следов, лужами, похожими на обрезки проржавевшей оцинкованной жести, пустынны и немы. Только изредка, скользя, проковыляет мужик с закатанными до колен штанинами, с накинутым на голову мешком.
Холодно и нудно.
От вынужденной бездеятельности не знаешь куда деться - то ли зайти в кооперативный магазин, где распаренные мокрые мужики, усевшись на пустые ящики, хлопают сальными картами по бочке из-под керосина, или податься в сельсовет, где сонный Федор зевает так болезненно и смачно, что вынужден потом со стоном вправлять себе челюсть, или так и сидеть в тоскливом сумраке и слепнуть над книжкой Жюля Верна про экзальтированного однорукого вояку, что подбил своих безрассудных приятелей полететь на Луну.
Надеваю брезентовый дождевик, накидываю на голову капюшон и иду в кооперацию за сахаром и новостями.
Знакомая картина: опершись локтями на широкий прилавок, дремлет приказчик Тодось, бессмысленно хлопает глазами на просьбу мальчонки в картузе без козырька и, уразумев что к чему, выбрасывает, словно играя в орлянку, конфетки - по две на копейку. И, смерив затуманенным взглядом надоевшего покупателя, снова погружается в свои тяжкие думы.
Ставни на зарешеченных окнах Тодось не открывает даже днем. В сумерках магазина широкими полосами стелется дым от "раскурочных", которые смалят хозяева побогаче, и от махорки и "турецкого" - это уже мужики победнее.
Читать дальше