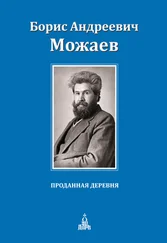Борис Можаев - Тонкомер
Здесь есть возможность читать онлайн «Борис Можаев - Тонкомер» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Русская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Тонкомер
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Тонкомер: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Тонкомер»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Тонкомер — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Тонкомер», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
И все у меня в памяти встало: и как Наташа в дороге радовалась, и как директор нас обласкал, и я никак не мог уяснить себе, что все это значит? Наташа шла молча и только иногда смотрела на меня так тревожно и растерянно. И дочка плакала...
Вошли в барак, осмотрелись: комнатка маленькая, грязная, шершавый пол из неструганых досок, выбитые стекла, ну и все в таком духе... Сквозь щели дощатой перегородки из соседней комнаты смотрела на нас с любопытством девочка лет шести, дочка кузнеца, вдового. Говорит: "Здравствуйте, тетенька!"
В другой соседней комнате кто-то стучал ведрами, а из третьего или четвертого отсека кто-то кричал: "Да не крути ты головой, сатана, макушку порежу!" Видать, кого-то стригли. Словом, все звуки слышны, как на улице.
Наташа эдак робко спрашивает рабочего:
- И надолго нас сюда?
- А уж этого я не знаю, - отвечает тот. - Мое дело маленькое - привести и показать. - И ушел.
Мне стало так стыдно, будто я обманул в чем, и не мог, понимаете, в глаза ей смотреть. Я начал с фальшивой бодростью насвистывать и разбирать вещи.
- Ну, это ничего для временного жилья, - говорю, - все же лучше, чем в палатке. А щели занавесим.
- Да, конечно, - отвечает Наташа, потом посмотрела на девочку, стоящую за перегородкой, и отошла к окну. А у самой слезы - кап, кап...
- Да ты что? Эх ты, глупая! - утешаю я ее. - Это же - временная трудность. Хочешь - я сегодня все устрою!
- Нет, не надо, - говорит она. - Я же все понимаю. Ты - хороший... - А сама еще сильнее плачет.
И эти слова - "ты хороший", и слезы - меня как ножом по сердцу.
Вышел я, помню, из барака злой и решительный. "Ну, - думаю, - держись, начальник!"
Разыскал контору, вваливаюсь и спрашиваю сердито:
- Кто здесь Редькин?
И встает мне навстречу из-за стола такой маленький, худенький мужичонка и говорит, ухмыляясь:
- Ого, какой сердитый! Новый мастер, если не ошибаюсь? - И так с усмешечкой осмотрел меня. - Ничего, - говорит, - подходящий.
И только потом сказал, что начальник-то и есть он самый.
- Ну, расположились?
- Я приехал не располагаться, как цыган, а жить по-человечески!
А Редькин все так же тихо и насмешливо:
- Живите на здоровье!
Лесорубы, сидевшие в конторе, засмеялись.
Я же долдонил, точно глухарь, про свое:
- А что квартира, достраивается?
Редькин опять хитровато усмехнулся и сказал:
- Скоро начнем сруб рубить.
Тут я уж совсем вышел из терпения и заорал:
- Где же мне зимовать?
А он и ухом не повел, будто не расслышал меня.
- Там, - говорит, - в бараке вас десять семей, за компанию весело будет. Зимой дров не жалейте, лес рядом.
- Меня же директор заверил, что здесь все готово, - не сдавался я.
- У него, мил человек, такая обязанность.
- Но ведь для нас же средства отпущены. Министерство платит! Почему же вы не строите дома?
Но он осадил меня своим тихим насмешливым голоском, да так, что мне стыдно стало:
- А кем строить-то, милый? Ведь у меня каждый рабочий - это плановая единица. Он должен план лесозаготовок выполнять, а не дома для мастеров строить. Ведь если я не выполню плана, с меня штаны снимут, и с тебя за компанию. Понял?
Но я продолжал спорить, скорее из упрямства:
- По-моему, рабочий - не плановая единица, а человек.
Он отмахнулся от меня, как от комара:
- Не надо мне политграмоту читать. - Сморщил свое маленькое лицо и взял меня за пуговицу рубахи. - Я тебе вот что лучше скажу: первую зиму я жил здесь в палатке. И ничего, как видишь. Но я, между прочим, начинал не со строительства дома для себя, а с выполнения плана. Однако я вас не виню: подход к делу бывает разный. Так что сегодня даю вам день на домашнее устройство, а завтра прошу приступить к работе.
11
Крепко он меня осадил. И что мы за народ? Вроде бы и неробкого десятка: случись какое несчастье - или там подраться, или дело какое опасное взять на себя, или воевать, или авария где произойдет - в огонь и в воду ледяную лезем. А за себя же заступиться, права свои отстоять, взять свое, что тебе наркомом положено, как на флоте говорят, вроде бы и стесняемся. Вроде бы нам и неловко чего-то. И стыдно даже. Подсунут тебе голую фразу: твое личное, мол, дороже общественного. Шкурные интересы! И ты сразу скис. Это еще ладно. А то яриться начинаешь на самого же себя. Так и со мной было.
Шел я из конторы и думал: как же это я не заметил, что омещанился! Мне, потомственному рабочему - и начинать разговор не с работы, а с квартиры, с ругани! Уперся я рылом в бытовое корыто, вот в чем суть. А я думал, что тещу победил. Нет, она меня одолела: прилипла ко мне ее расчетливость, как репей, и по миру за мной пошла. И я стал противен самому себе, и мне трудно было заходить домой: что я скажу Наташе? Утешать ее, врать, что все будет хорошо, то есть получим дом, я не мог. Убеждать ее в том, что главное жизнь не в удобстве, а в труде, и все такое прочее?.. Но зачем? Разве она сделала мне хоть один упрек за этот барак? Я вспомнил, как она испуганно и растерянно умолкла, когда рабочий вел нас к бараку. Я видел, как она глотала слезы в комнате и шептала мне: "Ты - хороший", точно извинялась передо мной за свою слабость. Ну что я ей скажу?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Тонкомер»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Тонкомер» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Тонкомер» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.