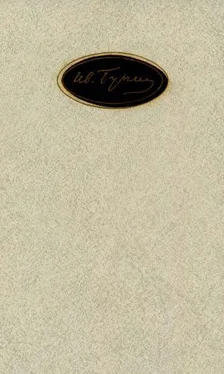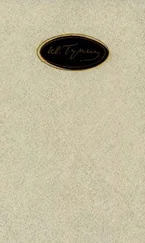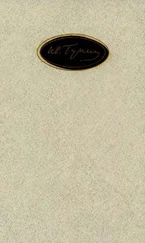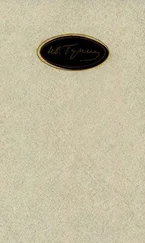«Я видел тебя нынче во сне — ты будто лежала, спала, одетая, на правом боку — черты лица были так хороши и женственны, во сне щечки разрумянились, — от тебя веяло теплотой сна — и я ладонь правой руки подложил тебе под голову, и ты с прикрытыми глазами улыбалась, а я целовал тебя нежно-нежно, наслаждаясь тобою, твоей нежностью, теплотою».
Письмо это осталось в России, и вряд ли его помнил Бунин, — но такова была сила его творческой памяти…
Описание любви Арсеньева и Лики в первых главах — пылкое, горячее чувство Арсеньева — и неустойчивое, переменчивое отношение Лики, которая плохо понимала его, была невнимательна и от равнодушия переходила к внезапным проявлениям нежности, — во многом автобиографично. Здесь Лика близка к тому типу женщин, не умеющих и не научившихся любить, который впервые был назван в «Снах Чанга», выведен в «Митиной любви» и «Деле корнета Елагина», позже — в рассказе «Чистый понедельник». Прообразом этого типа, несомненно, была В. В. Пащенко. Она первая объяснилась Бунину в любви, однако в своем чувстве к нему никогда не была уверена и упрекала его в том, что он недостаточно ее любит; на его письма отвечала редко и неохотно и, наконец, бессильная разобраться в путанице чувств, оставила его и ушла к другому человеку.
Арсеньев в первых главах весь поглощен любовью к Лике. Талант будущего поэта пока еще не проявился в нем с достаточной силой, и Арсеньев живет только своей любовью. Так было и с Буниным. Он был близок к самоубийству, когда Варвара Владимировна покинула его; продолжал мучиться, хотел «стереть с лица земли все эти проклятые воспоминания, которые терзают меня этой проклятой любовью», — и затем переходил к взрывам нежности, к минутам, «когда из тайников сердца поднялось что-то невыразимое, нежное, отзвук моей безумной любви к тебе».
У Арсеньева было иначе. Начиная с одиннадцатой главы, воссоздание уступает место преображению, очень сильному «сгущению» внутренних событий в жизни героя; происходит очень быстрое его взросление. Расставшись на время с Ликой (в тот момент ему не более восемнадцати лет), он целиком уходит в свой внутренний мир. Бунин опускает тяжелые годы своей жизни, годы нужды, случайной и неинтересной работы, душевной депрессии. Арсеньев как бы перешагивает весь этот период. Оставшись наедине с самим собой, он весь отдается борьбе с «неосуществимостью»: с тем, что он стремится выразить в слове и что пока не удается ему. Эта борьба за самое главное счастье — научиться «образовать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойное писания» — заслоняет все другие чувства и стремления. И вот, в один прекрасный день, когда на место душевных терзаний и мучительных поисков приходит озарение: спокойствие и очень простое решение: «без всяких притязаний, кое-что вкратце записывать — всякие мысли, чувства, наблюдения». Так рождается художник-лирик, поэт, который должен писать обо всем, что наблюдает и чувствует. Так рождается чувство долга художника, столь же органичное, сколь и сама потребность творчества.
Такие ощущения Арсеньева — автобиографичны (хотя, конечно, сдвинуты во времени). Бунин, мы знаем, всегда считал, что таланту нельзя давать лениться, надо его все время развивать, не давать себе остановки, работать, не позволять распускаться при мыслях о том, что писать якобы не о чем. Настоящий художник всегда найдет, о чем сказать. В этом смысле замечательно его письмо, написанное еще в 1912 году к Телешову: «…наберись смелости говорить смело: мне скучно, мне все равно и вот почему, жил я вот так-то, видел и вижу вот то-то, вчера в кружке был, среди мертвецов и обжор, а хотелось бы мне того-то и того-то…» Или взять его высказывание о Пушкине, сделанное в молодые годы: «Мы почти ничего не знаем про жизнь Пушкина… А сам он ничего о себе не говорил. А если бы он совершенно просто, не думая ни о какой литературе, записывал то, что видел и что делал, какая это была бы книга! Это, может, было бы самое ценное из того, что он написал. Записал бы, где гулял, что видел, читал…» И другие слова, сказанные позже: «Надо, кроме наблюдений о жизни, записывать цвет листьев, воспоминание о какой-то полевой станции, где был в детстве, пришедший в голову рассказ, стихи… Такой дневник есть нечто вечное».
В эту пору творческого пробуждения у Арсеньева изменился характер: он стал мужественнее, проще, добрее, спокойнее. Таким преображенным застала его после разлуки Лика — и тут они как бы поменялись ролями. «Теперь уже я (как прежде, в Орле, она) хотел быть любимым и любить, оставаясь свободным и во всем первенствующим». Это произошло потому, что Арсеньев нашел свою жизненную цель и опору — в творчестве; остальное было второстепенно по сравнению с главным: с его творческой свободой, которая для него непременно включала в себя и его право увлекаться другими женщинами («я поэт, художник, а всякое искусство, по словам Гете, чувственно»). И, продолжая любить Лику, но теперь уже иначе, Арсеньев, вполне в духе позднего Бунина, говорит о том, что возможность их с Ликой «вечной неразлучности» вызывала у него недоумение. «Неужели и впрямь мы сошлись навсегда и так вот и будем жить до самой старости, будем, как все, иметь дом, детей?..» Впрочем, такое настроение не было новым для Арсеньева. Когда еще в детстве старший брат Николай шутливо стал рисовать ему его будущее — «когда подрастешь, будешь служить, женишься, заведешь детей» и так далее, Алеша «вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался». У Лики же ничего, кроме ее любви, не было в жизни, а она полюбила Арсеньева по-настоящему, и ей хотелось, чтобы он жил только ею. Но этого он теперь и не мог. И поскольку Лика, несмотря на то что тоже во многом изменилась за эти годы, все-таки не была рождена спутницей художника, которая могла бы раствориться в нем, в его жизни, в его интересах, — то постепенно их любовь стала сходить на нет. Бунин показывает неизбежность такого конца: Лика не смогла в конечном счете полюбить Арсеньева так, как нужно было ему, для него, а не для себя, ушла от него и вскоре умерла.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу