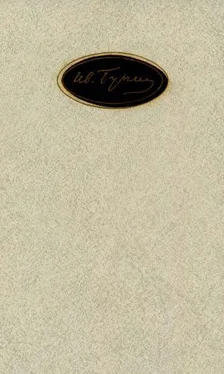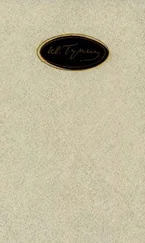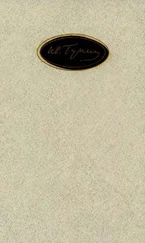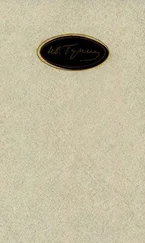Такой подход к изображаемому не был идеализацией, ибо Бунин, будучи человеком горячим и пристрастным, просто не умел смягчать изображение событий и фактов. Он лишь миновал то, о чем ему не хотелось говорить, либо ограничивался упоминанием (как, например, сильно укоротил в «Арсеньеве» долгие зимние месяцы и продлил дни короткого русского лета). Должно быть, потому и не стал он писать продолжение своей книги, что пришлось бы говорить о многом тяжелом и заново испытать пережитые некогда глубочайшие потрясения…
Зато когда Бунин хотел предаться воспоминаниям об истоках своих дней, — то написанное обретало под его пером почти документальную точность. Например, переживания мальчика Арсеньева, связанные со смертью его сестры Нади, близки тому, что испытывал маленький Ваня Бунин после кончины младшей сестры Саши. «В тот февральский вечер, когда умерла Саша, — вспоминал он, — и я (мне было тогда лет 7–8) бежал по снежному двору в людскую сказать об этом, я на бегу все глядел в темное облачное небо, думая, что ее маленькая душа летит теперь туда. Во всем моем существе был какой-то остановившийся ужас, чувство внезапного совершившегося великого, непостижимого события». Или когда Бунин описывает влюбленность юного Арсеньева «на поэтический старинный лад» в Лизу Бибикову, то это опять-таки тесно связано с воспоминаниями Ивана Алексеевича о своей юношеской поре: о влюбленности в родственницу соседей, красивую девочку с голубыми «волоокими» глазами. «Я решил не спать по ночам, ходить до утра, писать… Я чуть не погубил себе здоровье, не спал почти полтора месяца, но что это было за время! Под моим окном рос, цвел в ту пору жасмин, я выпрыгивал прямо в сад, окно было очень высоко над землей; тень от дома лежала далеко по земле, кричали лягушки, иногда на пруду резко выкрикивали испуганные утки… я выходил в низ сада, смотрел за реку, где стоял на горе ее дом… И так до тех пор, пока не просыпалось все, пока не проезжал водовоз с плещущей бочкой». В пятой главе третьей части, где Арсеньеву идет шестнадцатый год, писатель говорит о его «повышенном душевном строе», приобретенном «за чтением поэтов, непрестанно говоривших о высоком назначении поэта, о том, что „поэзия есть бог в святых мечтах земли“» (последняя строка из перевода В. А. Жуковского немецкой драмы «Камоэнс». — А. С). А в дневнике 1885 года пятнадцатилетний Бунин пишет: «…поэзия есть бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский… Мне скажут, что я подражаю всем поэтам, которые восхваляют святые чувства и, презирая грязь жизни, часто говорят, что у них душа больная… Да! и на самом деле так должно быть: поэт плачет о первобытном чистом состоянии души…» Документальная точность? Да, но вернее было бы сказать: благодарная память сердца. Здесь — редкий случай, когда возраст автора и его героя совпал. Что же до точности воссоздания различных подробностей, то она проходит через всю книгу, притом ничуть не противоречит, а, напротив, даже помогает творческому переосмыслению. Переосмыслены не столько сами лица и события, сколько авторское отношение к ним. Вот интересный пример — рассказ о приезде Арсеньева в Харьков к старшему брату Георгию (в котором писатель вывел своего брата Юлия Алексеевича), об отношении к его деятельности и к его единомышленникам. Бунин воссоздал свой приезд к Юлию в Харьков. Ему самому тогда было восемнадцать лет, Арсеньеву нет и шестнадцати. О среде молодых революционеров, куда попал Алексей Арсеньев, сказано так: «Уж как не подобала она мне! Но к какой другой мог присоединиться я?» Между тем сам Бунин в юности находился под сильнейшим влиянием старшего брата, его идей и его товарищей. Именно брату обязан он своими вольнолюбивыми юношескими стихотворениями, хотя и слабыми в литературном отношении, зато совершенно искренними, — Бунин вообще никогда и ни в чем не кривил душой, и если он бывал в кружке старшего брата, значит, и Юлий, и его друзья были интересны ему. Естественно, что одни люди ему нравились, других он, в силу пристрастности и нетерпимости своего характера, не принимал, но это не мешало ему с интересом участвовать в их дискуссиях. Об этом пишет в своей книге В. Н. Муромцева-Бунина: она утверждает, что многое в среде Юлия, несмотря ни на что, было «приятно» молодому Бунину. И когда Арсеньев говорит, что ему «тяжко, неловко» среди этих людей, то это утверждает именно вымышленное лицо — юноша с душой «позднего» Бунина…
Такое переосмысление автором некоторых моментов своей жизни ни в чем не нарушает, однако, главной правды: правды исповеди поэта. В эту исповедь, творческую и человеческую, втянут весь мир, окружающий Алешу Арсеньева. Этот мир начинается с самых первых запомнившихся, как ему кажется, лучей света, вырвавших младенца из тьмы небытия, с момента появления его на свет. Само рождение в мир, осознание этого события идет в сокровищницу душевных впечатлений Алексея Арсеньева, чтобы на всю жизнь остаться там:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу