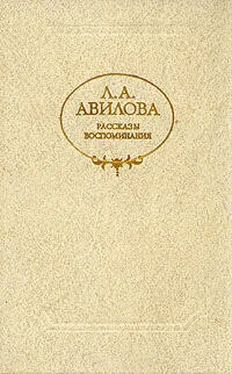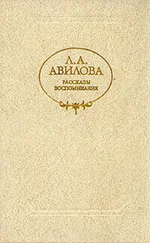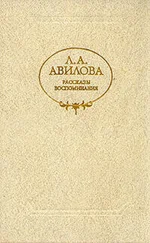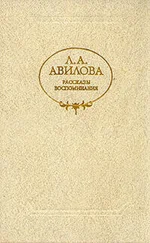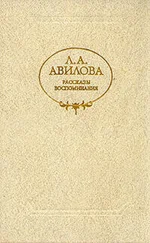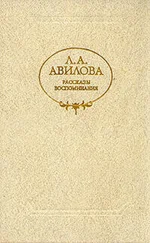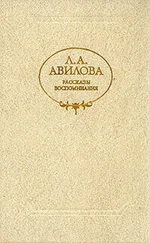— Неужели? неужели она это сделала? — в сотый раз спрашивал себя Павел Аркадьевич, кутаясь в шинель и надвигая на глаза высокую бобровую шапку.
— Кто ее знает! Я не удивился бы даже, если бы оказалось, что она оставила записку: какое-нибудь покаянное послание мужу или загробное проклятие по моему адресу.
— Ехать? не ехать? — размышлял он, спускаясь по лестнице и выходя на улицу. — Если я поеду — поступок будет вполне естественный: я был принят в доме, принят, как свой человек. Правда, что за последний год я бывал крайне редко, но отношения остались дружескими. Добрейший Иван Николаевич верил в мое увлечение работой… Было бы даже странно, если бы я не поехал теперь, но…
Павел Аркадьевич подозвал извозчика, сел и приказал ехать, махнув рукой вперед.
— Но каково будет мое положение, если она оставила записку или письмо! По газетному объявлению ничего толком понять нельзя: «Иван Николаевич Осокин с прискорбием извещает родных и знакомых о кончине его дорогой жены, Анны Алексеевны…» О кончине! к этим словам часто прибавляют «скоропостижной», или «после тяжкой и продолжительной болезни». Ничего такого к объявлению не прибавлено.
Павел Аркадьевич стал припоминать. Последний раз он виделся с Анной Алексеевной в театре, месяца два назад. Встреча была случайная, и ни он, ни она не обрадовались ей. Она сидела в креслах, одна, а он в антракте предложил ей пройтись по коридору. Никаких неприятных для себя объяснений он не опасался. Анна Алексеевна приучила его чувствовать себя с ней в полной безопасности от каких бы то ни было сентиментальных сцен. Только один раз, в самом начале их связи, она как-то неожиданно разрыдалась и стала говорить о том, что вместо счастья она чувствует стыд, унижение и невыносимую тоску. Она даже стала жаловаться Павлу Аркадьевичу на него самого и доказывать ему, что он первый презирает ее и грязнит ее любовь. Но, заметив его омрачившееся лицо и недружелюбный взгляд, она вдруг замолчала, долго сидела неподвижная и задумчивая и вдруг так просто, искренне и серьезно попросила у него прощения, что этой просьбой удивила и озадачила его еще больше, чем слезами и жалобами.
— Да, я была несправедлива, — убежденно сказала она. — Этого больше не повторится. Видишь ли, милый, — со странным смехом продолжала она, — мы, женщины, только воображаем о себе много, а в душе мы верим в ваше превосходство и к вам мы требовательнее, чем к себе. Вот и сейчас… Люблю я тебя такою же грешною, такою же земною любовью, как и ты меня любишь, и ничуть мое чувство не выше и не чище твоего, иначе зачем бы я стала обманывать своего мужа? А между тем я уже сочла себя вправе упрекать тебя. Это оттого, что я как-то невольно, бессознательно поставила тебя высоко-высоко над собой, и мне уже показалось несправедливостью то, что ты не поднял меня до себя. Это у нас своего рода «благородство чувств», милый: с радостью бросаться в грязь и потом жаловаться и негодовать, что эта грязь забрызгала нас.
— Что это за философия, Аня! — перебил ее Павел Аркадьевич. — Мы, вы, грязь…
— Да, да! — возбужденно подхватила Анна Алексеевна, — Не надо и философии. Ничего не надо! никаких слов! да? Если можно быть счастливыми, будем счастливы. В сущности, мы оба только этого и хотели. Вот я гляжу на твое лицо… Как оно дорого мне! И эти глаза… и эти губы… Зачем я хотела уверить себя, что полюбила тебя только за то, что ты выше, умнее, лучше других? Я счастлива тем, что ты находишь меня красивой, желанной… Зачем же стараюсь убедить тебя, что я чувствую себя униженной и пристыженной? Я не хотела лгать — и лгала.
— И плачешь о чем-то, — досадливо пожимая плечами, заметил Павел Аркадьевич.
— Плачу? — удивилась молодая женщина. — Разве я плачу? Не замечай! Видишь: с тобой я хочу быть искренной, искренной… и простой. Мне еще трудно освободиться от какой-то раздвоенности… Знаешь, какое у меня чувство? Мне кажется, что мы оба — и ты, и я — уличили друг друга в каком-то очень дурном, очень низком поступке, и ты… ты, уличенный, остался спокойным, самоуверенным; я же… Мне и грустно, и радостно. Я могла бы быть счастливой, а в душе что-то болит-болит…
— Направо! — сердито крикнул Павел Аркадьевич извозчику.
Пробираясь к выходу из театральной залы, Анна Алексеевна шла впереди Павла Аркадьевича, и он невольно заметил, что ее фигура стала гораздо тоньше, чем была раньше.
— Вы похудели, — заметил он, когда они пошли рядом по коридору.
Читать дальше