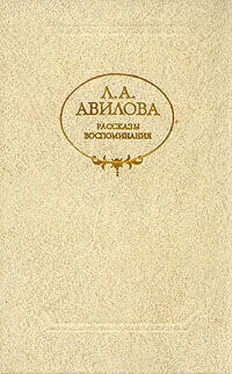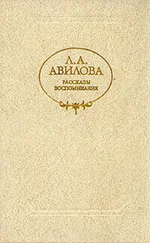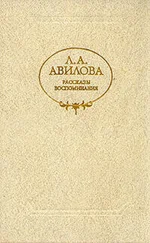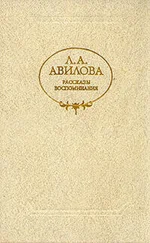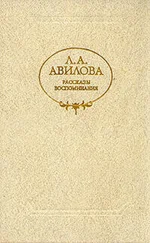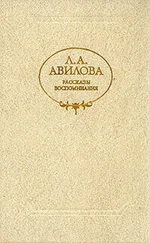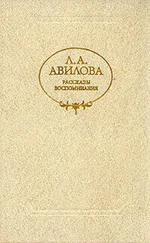Много, много у меня времени, лежа, думать и вспоминать. Ну, думы тяжелые, и думать больно. А вспоминать можно с выбором, и часто от воспоминаний вся душа точно пронижется солнцем и станет легкой и радостной. Отчего я не начала давно записывать такие отрывочные воспоминания? Читать мне часто нечего, делать нечего. Приятно вспоминать, и записывать приятно. Немного, а иногда и очень физически трудно и неудобно писать. Ну, когда могу. Отрывки. Без всякой последовательности, без всякой цели, без всяких претензий на «воспоминания», на литературность. Сны моей жизни.
Тысяча девятьсот четвертый год
(Эпилог повести «А. П. Чехов в моей жизни») [1] В 1940 году Лидия Алексеевна закончила и отдала для опубликования мемуарную повесть «А. П. Чехов в моей жизни», которая была издана лишь после ее смерти и выдержала ряд изданий (см. выше). При подготовке к печати рукопись подверглась значительным сокращениям. Так, сняты предпосланные повести эпиграфы из Тургенева и Блока. Они восстановлены в издании 1960 года, но лишь в примечаниях (см. «А. П. Чехов в воспоминаниях современников», 1960, с. 724). Между тем Лидия Алексеевна долго выбирала эпиграфы. Первоначально в рукописи был еще третий эпиграф из Достоевского: «Об женщине нельзя сообщать третьему лицу. Конфидент не поймет. Ангел и тот не поймет. Если женщину уважаешь, не бери конфидента. Если себя уважаешь, не бери конфидента». Эпиграф в окончательный вариант автором не помещен. Лидия Алексеевна считала эпиграфы очень существенными для всей тональности повести, как бы задающими ее настроение. Показывая эти эпиграфы автору настоящих примечаний, она замечала: «Только почему у Блока „смеющийся мальчик“?» (О глупое сердце, смеющийся мальчик. Когда перестанешь ты биться?) Можно предположить, что эпиграфы были сняты первым редактором повести. Эпилог повести под названием «Тысяча девятьсот четвертый год» вообще не увидел света. В примечаниях к повести в издании 1960 года говорится об эпилоге как о «незаконченном отрывке» (с. 724). Между тем эта глава является именно и композиционным и сюжетным завершением повести. В настоящем издании эпилог (с незначительными сокращениями) представляется вниманию читателей впервые.
Четвертого июля мы ждали с вечерним поездом много гостей [2] В усадьбу Авиловых Клекотки.
. Пятого праздновался день нашей свадьбы, и все наши друзья и родственники съезжались и по железной дороге и на лошадях, чтобы повеселиться и попировать.
Поезд приходил около 11-ти вечера. Мы слышали, как он просвистел, как экипажи прогремели по плотине. Вышли встречать на крыльцо.
Всем был приготовлен ночлег, и, после шумной сутолоки приезда, гости разбрелись по комнатам привести себя в порядок. Я стояла в столовой, оглядывая накрытый к ужину стол, когда Миша быстро подошел ко мне, взял меня под руку и вывел на неосвещенный балкон.
— Вот что… — сказал он резко, как будто сердился, — вот что… Я требую, чтобы не было никаких истерик. Я требую. Слышишь? Из газет известно, что второго в Баденвейлере скончался Чехов. Мы этой газеты еще не получили. Так вот… Веди себя прилично! Помни!
Он сейчас же ушел. Я осталась в темном углу. Ухватившись за перила, стояла и дышала. Дышать было трудно. Стоять тоже было трудно. Надо было напрячь все силы. Но времени у меня не было, и я отдышалась, и ноги стали меньше подкашиваться и дрожать. Я глубоко-глубоко перевела дух и попробовала двигаться. Спустившись на несколько ступеней к темному цветнику, я подняла голову и взглянула на небо: было облачно, но кое-где светились звезды. Подбежала дворовая собака и стала ласкаться, тереться о мое платье и протягивать мне лапу, и от этой ласки вдруг ожесточилась моя душа…
В столовой послышались голоса. Собирались ужинать. Миша кричал:
— Лида! Лида!
Я погладила собаку и пошла к гостям. Мне бросилось в глаза тревожное сострадательное лицо Нади, и я поспешно отвернулась.
Так как я уступила свою спальню гостям, мне постелили у Ниночки, на кушетке под окном. Ниночка крепко спала.
Я заперла дверь, поспешно легла и стала смотреть в окно. Уже слегка рассвело. По бесцветному небу протянулись длинные темные облака, деревья в саду стояли неподвижно. Сильно пахло левкоями.
— Чехов умер, — мысленно сказала я себе. Весь вечер никто не сказал об этом ни слова. Я все ждала, что будут говорить, но, может быть, об этом уже раньше наговорились и эта тема наскучила? Впрочем, я не задумывалась над тем, почему не говорили. Скончался 2-го в Баденвейлере. Хотела представить себе его мертвым в гробу, но ярко вспомнила его лицо на подушке в клинике, темные глаза, то ласковые, то хмурые, и вдруг лукавые и смеющиеся.
Читать дальше