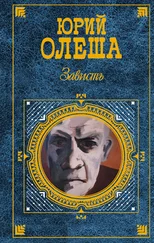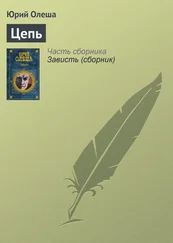Я записал такие его слова о Достоевском:
"Очень странный писатель. Он может не нравиться. У него в "Идиоте" генерал Иволгин что-то выдумывает. Входит Настасья Филипповна, и жена Иволгина. Краснеет. Почему краснеет? Это прекрасно, когда так выдумывают. Я не понимаю этого. У Достоевского были превратные понятия о самолюбии".
Что давало Олеше основание так смело читать книги?
"Пусть даже это будет мнение великих писателей - Льва Толстого, Пушкина и т. д., тут для меня нового нет, я это все знаю и сам, - тут я не в школе, а если и в школе, то среди учителей".
Мы бы со смущением прочли эти строчки, если бы в другом месте - и не раз - Олеша объяснял их.
"Мне всегда казалось доказанной неделимость мира в отношении искусства. В разных концах мира одно и то же приходит в голову".
"На разных точках земного шара сидят художники, видящие одинаково".
Заметки Олеши - это меньше всего критика, в них нет поучений, это именно выражение того, что Олеша называл "перекличкой с художниками".
Вот из его заметки о "Сиде": "Мне нравится особенно, что в сражении Родриго взял в плен "двух царей". Другой сказал бы: трех. Тут строгость вкуса... Я думаю, что "два царя" были приятной, очень важной деталью для Корнеля". Замечание тонкое, очень характерное для Олеши и конечно же такое, какое мог сделать только писатель нашего времени. И тем не менее мы имеем дело вовсе не с проектированием, так сказать, современных представлений о стиле на творчество писателя XVII века. С большой долей истины можно сказать, что Корнелю действительно важен был этот образ "два царя". Мы присутствуем при удивительном факте общения художника с художником в тот замечательный момент, когда между ними рождается понимание.
То, что такое понимание существует, Олеша отмечает не раз с какой-то даже гордой уверенностью.
"Так, я обратил внимание, что Чаплин в своем сценарии называет нашу современность "веком преступлений". Никто не выделял этой фразы в сценарии, выделил ее только я. И вот, рассказывая о своей встрече с Чаплиной в Лондоне, режиссер Герасимов вдруг при мне говорит, что Чаплин, по его словам, весь фильм поставил ради этой фразы".
Факт подобного рода подметил и я сам. Олеша пишет об Эдгаре По, что его мог бы сыграть Чаплин. Утверждение может показаться парадоксальным. Почему вдруг Чаплин - и Эдгар По? Но недавно у Эгона Эрвина Киша я прочитал, что По любимый писатель Чаплина. Знал ли об этих словах Юрий Карлович? Вряд ли. Иначе бы он об этом написал.
Однако вернемся к беседам с писателем.
Я для Юрия Карловича вряд ли был интересным собеседником. В его присутствии любые реплики, вопросы казались банальными, малозначительными. Поэтому говорить я старался мало. И все же в чем-то я был, несомненно, интересен Олеше. Случайный молодой человек, пришедший к нему, был представителем нового, недостаточно хорошо знакомого ему поколения читателей.
- Читают ли сейчас Бальзака, Гюго? - спрашивал он.
Мои ответы (Олеша называет еще писателей, и я отвечаю: "Да, да") не удовлетворяют его. Он хочет знать, видимо, не столько, что читают, сколько, как читают.
- Я видел, как девушка на эскалаторе метро читала "Войну и мир", сообщает он сам.
Сколько помнится, сказано это было без тона осуждения. Может быть, Олеша и сам не решил, хорошо это или плохо. "Мое время началось примерно в дни, когда появилась мина и появился пулемет", - пишет он в автобиографических записках, как бы удивляясь тому, как много он видел за время своей жизни. Может быть, чтение "Войны и мира" на ступеньках движущейся лестницы было для Олеши просто временной вехой, также свидетельствующей о том, как изменился мир.
Я называю имя Стефана Цвейга. Напомню, что в конце пятидесятых годов молодежь была как раз очень увлечена этим писателем, как несколько ранее Кронином, а позднее Ремарком. То, что я сообщаю Юрию Карловичу, по-видимому, не открытие для него, он тоже что-то прослышал о моде на Цвейга и сердится. Говорит очень резкое слово, которое затем все же смягчает замечанием:
- Вот биографии у него неплохие.
Та же резкость, как и при упоминании Шоу. И тоже, по-видимому, не специально направленная против данного писателя. В то время происходило как бы вторичное открытие многих имен - и Томаса Манна, и Уэллса, и предпочтение им писателя значительно низшего ранга вызвало раздражение Юрия Карловича.
В дальнейшем речь зашла еще об одном хорошем, но неправомерно высоко возносимом авторе, и тогда Юрий Карлович бросает замечание, которое, как мне кажется, определяет для него критерий значимости творчества писателя:
Читать дальше