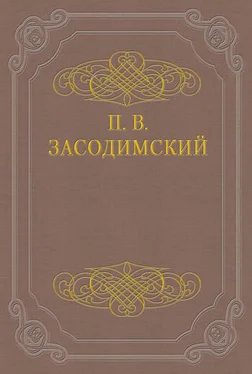– Так, что-то не поспалось… пришла посмотреть, не раскрылась ли ты, – ответила ей старушка.
– Да если бы и раскрылась… не беда! Теперь ведь тепло…
Но тут Милочка повнимательнее посмотрела на бабушку и вскричала:
– Бабуся! Вы плачете… О чем?
– Нет, Милочка! Я так… – отнекивалась старушка, проводя рукой по глазам.
– У вас на глазах слезки…
Милочка вскочила и, встав на постели на колени, обняла бабушку и нежно припала головкой к ее плечу.
– Нет, нет, душенька… ничего! – бормотала бабушка, наклонясь и целуя Милочку, и сослепа преусердно капала со свечки стеарином Милочке на сорочку и на постель.
– Нет, бабуся, право, – скажите: вы о чем? – мурлыкала Милочка, прижимаясь к бабушке.
– Так, скучно… грустно мне, Милочка, что ты завтра уедешь, опять я останусь одна, и когда теперь… – заговорила старушка и запнулась.
– Я, бабуся, непременно, непременно приеду к вам в августе! Вот посмотрите, что приеду… – утешала ее внучка. – А потом и вас к себе увезу, и Дуню… И вы живите у нас, пока стоит осеннее ненастье… дольше живите! Бабуся, да вы присядьте!
– Спать ведь пора, дружок! – сказала бабушка, садясь к Милочке на постель.
А Милочка, лукаво посматривая на нее, промолвила:
– А помните, бабуся, как на другой день моего приезда, вы говорили, что ни за что не пригласили бы меня в гости, если бы знали, что я такая своевольная девочка!..
– Да, милая! Я это сказала тогда… – созналась бабушка, улыбаясь сквозь слезы. – Но ведь ты меня совсем из терпенья вывела… Вспомни, что ты тогда напроказила! Ведь ты у меня в спальне окно выставила… А ты, шалунья, дерзкая ты девчонка, помнишь, что сказала тогда: «Я бы ни за что не приехала, если бы знала, что у меня бабушка – такая ворчунья, такая злая, сердитая»…
Бабушка так смешно передразнила Милочку, что та неудержимо расхохоталась и опять бросилась бабушке на шею.
– Ну, а теперь, бабушка, мы подружились, да? – вскричала Милочка. – Теперь уж я знаю, что вы – совсем не злая… что вы добренькая, добренькая, моя бабуся… моя старенькая, моя хорошенькая бабусеночка!
И она ласкалась к старушке, гладила ее по плечу и прижималась своим смеющимся личиком к ее щеке.
– А как же ты смела так говорить тогда? – продолжала бабушка, нежно теребя ее за ухо.
– Я, бабуся, тогда очень рассердилась… – возражала ей внучка.
– Вот это мило! Да разве такие маленькие девочки могут сердиться?..
– Как же! Могут!.. Ведь у них же сердце есть… – утвердительно ответила Милочка.
Бабушка только покачала головой…
Трогательно было видеть, как поутру, при прощании, бабушка и внучка нежно обнимались и целовали друг друга…
– Смотри же, Фома, – осторожнее вези барышню! – говорила бабушка, стоя на крыльце и строго смотря поверх очков на своего старого возницу, пока Милочка со своей Протасьевной усаживалась в коляску.
– Знаю, матушка Евдокия Александровна! Не первый раз ехать приходится, храни Бог!.. – отозвался Фома, молодцевато натягивая вожжи.
– Ты ведь знаешь наших серых… – внушительным тоном продолжала бабушка. – Они – смирны, смирны, да вдруг и подхватят… Под гору-то хорошенько сдерживай их!
Серые смиренно стояли, понурив головы, и если бы они могли понимать человеческую речь, то, вероятно, чрезвычайно удивились бы тому мнению, какое высказывала бабушка об их ретивости.
– Ни в гору, ни под гору не поскачут! – возражал Фома, очевидно ближе бабушки знакомый с качествами своих престарелых коней.
– Ну, то-то, смотри! Я ведь знаю, что ты тоже иногда любишь гнать лошадей, сломя голову, строго выговаривала бабушка.
Фома только молча ухмыльнулся. То время уже давно прошло, когда Фома «гонял лошадей, сломя голову», и дорого он дал бы тому, кто теперь ухитрился бы «разгорячить» его серых и разогнать их – хотя бы под гору…
Коляска наконец тронулась, и бабушка, по своему обыкновению, смотря поверх очков, с грустью глядела вслед уезжавшей внучке. Вот уж выехали за ворота; серые мерной рысью побежали по дороге к лесу…
Милочка стояла в коляске, посылала бабусе воздушные поцелуи, кивала головой, махала платком… И еще раз издали донесся до бабушки ее серебристый голосок:
– До свиданья, бабуся! До свиданья!