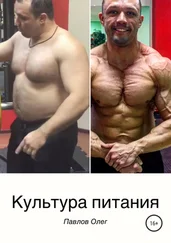Дом на проспекте
Вначале был телевизор. Первое, что помню, - это черно-белая картинка, где все двигалось, наверное, издавая звуки, привлекательные на слух. Из ясель глядел в ее сторону и затихал, отчего телевизор в комнате всегда оставляли включенным, даже если не шли передачи; выключали - когда засыпал. Осмысленно начал указывать тоже в его сторону. Еще не умея говорить, глядел на экран и подпевал человеческим голосам из этого ящика. Когда клали на ковер, полз к телевизору и обмирал подле него от удивления. Помню много отдельных черно-белых картинок из телевизора, не знаю, правда, из какого они времени и что это были за передачи. Так как до телевизора легко было доползти на четвереньках, то не было охоты ходить пешком. Научился раньше срока говорить. У телевизора сидел, поджимая под себя ноги, как лягушка. Когда это уродство привлекло внимание, тогда, наверное, поняли, что телевизор уже опасно управляет мной. Спохватившись, разлучили с непривередливой, но оказавшейся опасной нянькой, то есть перенесли ящик в другую комнату и держали дверь в нее закрытой.
Но, научившись ходить, без труда проникал в эту комнату и нажимал на пластмассовую педальку. Телевизор включался... А картинка на экране управлялась непонятной силой - она включалась сама, и являлось вдруг изображение с человечками, а до этого часами было видно одну паутину и слышно голоса как за стеной.
Я уже понимал, что умею сидеть "лягушкой" и что это только моя удивительная способность. Когда оставался с телевизором подолгу один на один, то воспринимал себя частью той реальности. Искал, где находится вход в нее, где она прячется в этом ящике, чтобы оказаться тоже внутри. Обычно, глядя в телевизор, все менее чувствовал себя и все вокруг в квартире настоящим. Входа нет - или о нем не говорят только мне одному. Я прислонял, бывало, лицо прямо к слепящему стеклу экрана, вытерпливая резь и боль, заставлял себя не закрывать глаза и, ослепленный, видел вдруг не изображение, а хаотичный вихрь черных и белых точек. Но стоило отстраниться, хаос точек живо собирался в реальность. В этой реальности удивляло и угнетало разнообразие человеческих лиц. Я не понимал и пугался, зачем все люди такие разные, не похожие друг на друга. В этом чудился какой-то обман, что-то опять же не настоящее.
В телевизоре никогда не являлось знакомых мне лиц или хоть похожих - на маму, отца, сестру. И ничего из того, что окружало нас в квартире. Вдобавок все в нем было черно-белым. Наверное, было ощущение, что есть две жизни и два мира. Оно, это ощущение, обретало себя в странных склонностях: к примеру, все в доме страдали от того, что я прятал их вещи, обычно мелкие, доступные по силам, будто их и не должно было существовать. Когда они переставали существовать, я уже не осознавал, куда и что запрятывал. Утраченный предмет оказывался порой до того важным, что происшедшее оставалось навсегда в моей памяти. Так я залез к матери в сумочку и утащил пропуск ее на работу. Пропуск запрятал в книгах, на полке, и забыл. А ее не пустили без него на работу. она металась, искала его, трясла меня, чтобы сказал, куда спрятал. Потом, только со временем, он отыскался.
Еще все казалось несоразмерным: отчетливо помню, как озираю нашу комнату, и она кажется мне огромной, будто снесли стену и из двух комнат сделали одну. Огромны все предметы и мебель. Все игры, которые сам себе придумывал, были попыткой покорить этот простор, с одной стороны, а с другой - спрятаться.
Залезал по книжной полке под самый потолок, а потом орал, чтобы сняли, потому что слезть с нее уже боялся. Залезть всегда норовил куда повыше, откуда все уменьшалось, но на высоте как стужей охватывало и отнимались руки-ноги. Больше всего любил устраивать себе нору или домик под постелью, для чего ее нарочно раскладывали. Зазоры заделывал кубиками или занавешивал. Внутрь залезал с фонариком - это был фонарь на динамо-машинке, который светил лишь тогда, когда его жали в руке. Добывая из него свет, никак не мог уснуть. А только уставал, как укрывалище погружалось в темноту. И частенько в ней засыпал, будто слушался наступления ночи. Туда мне приносили еду, а иногда заглядывали ко мне, будто в гости, и это было самое чудное, когда я лежал в полутьме своей расщелины, а из другого мира являлось в щелке лицо матери. Еще любил наблюдать из-под постели, что делалось в комнате.
Шкура медведя на полу, под ногами. Чучела птиц надо мной. В шкуре нравилась шерсть, и нравилось заглядывать в медвежью пасть. Заглядывая, вдруг ощущал ужас от мысли, что медведь и сейчас может быть живым, глаза его из шариков, стеклянные, глядели совсем как живые. К шкуре из-за этого относился все же больше как к живому существу, был с ней добрым - гладил шерстку. А чучел птиц не любил. Они, два чучела, сидели на ветках, а ветки были приколочены очень высоко, и из-за этого в них мерещилось что-то хищное. Одно чучело было белое, полярной куропатки, а второе - глухаря. Понимал, что они неживые: отец раз снял со стены куропатку и показал, чтобы не боялся, какой сушью была она набита.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу