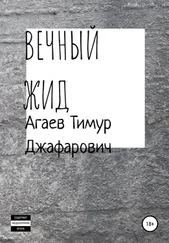Николай Пчелин - Вечный жид
Здесь есть возможность читать онлайн «Николай Пчелин - Вечный жид» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Русская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Вечный жид
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Вечный жид: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Вечный жид»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Вечный жид — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Вечный жид», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ехали три дня. Водитель выпускал ночью "до ветра", при мне были две буханки хлеба, пластиковая полуторалитровая бутылка с водой и пустая "для малых нужд". Я, собственно, не уверен, что находился в пути три дня: так сказал водила, высаживая меня на крашенной желтой краской автобусной остановке. "Мы - в Згожельце, вон там - немецкая граница. Мне сейчас назад, да и немцы - не наши парубки, найдут в машине. Пересидишь день, ночью переходи речку на немецкую сторону, в Гёрлиц. Бывай". День я провел в парке. Один раз вышел осмотреться к пропускному пункту на мосту. Польские пограничники в смешных высоких ботинках с раструбами зевали от скуки и, казалось, не обращали внимания на поток идущих мимо людей. На противоположной стороне оливковыми пятнами двигались фуражки немцев.
Пошлявшись по городу, купил в книжном магазине карту Германии; на ее обложке из пластика было написано по-польски: "Немчи". Постепенно темнело. Я выбрался к берегу Нейсе как раз напротив черного замкнувшегося в себе собора. Из польской части разделенного пополам города доносились музыка, смех, ровное урчание телевизора, неопределенные шумы - жизнь, одним словом. Немецкая сторона угрюмо молчала. Какие-то мальчишки подошли, заговорили: "Цо робить пан? Пан мает таблетки от гловы? Пан не знает, где спать? Можно у нас, но у мамы болит глова". Я вытащил из кармана несколько таблеток аспирина, протянул тому, кто говорил. От ночлега отказался. Через какое-то время они вернулись. "Ты хочешь в Немчи? Граничники ходят каждый час. Когда пройдут, мы свистнем, переходи реку. Но мы хотим пенёндзе". Я вынул из кармана несколько бумажек с изображениями Коперника, Яна Собеского, Мицкевича. Мальчишки закивали головами.
Все так и произошло. В одиннадцать часов вечера я перешел Нейсе вброд, оставив на польской стороне Коперника с Собеским и Мицкевичем. Выбравшись на берег, отлежался какое-то время в мокрой траве. Я ждал недолго: к реке подъехал автомобиль, скользнули лучи направленных в польскую сторону фонарей и, ничего не обнаружив, погасли. Немецкий патруль. Это значило, что до следующего объезда есть время. Быстро переодевшись в сухое и привалив мокрую одежду парой булыжников, я побежал. Несколько раз перелезал через какие-то заборы, чудом избежав столкновения с огромным черным догом, который почему-то не залаял, а только глухо зарычал. Наконец я выбрался на освещенную улицу. Прятаться, как мне казалось, не имело смысла. Когда проходил по безлюдной площади мимо старой башни с часами, очевидно, ратуши, здесь все еще пахло жареной колбасой. "Колбасники", - улыбнулся я промелькнувшему в голове словцу из лексикона покинутого мной ветерана-убийцы.
Я вышел постепенно из города. Когда проходил мимо освещенной витрины какого-то большого магазина, столкнулся с двумя симпатичными девушками. Я притормозил. Они скользнули по мне глазами, как по покосившемуся придорожному столбу, и даже не отвернулись. Стоит, ну и пускай стоит. Голосовать на шоссе не имело смысла: кто возьмет такого типа, как я? Торчать на остановках или вблизи освещенных мест было опасно, и я побрел вдоль железной дороги, ведущей в глубь страны. Мимо один за другим пронеслись несколько переливающихся яркими огнями поездов; один из них был похож на длинную белую змею, стремительно подбирающую хвост на поворотах.
Я все шел и шел. В одном месте пришлось пробираться через скошенное хлебное поле. И тут я, устав бояться, огляделся - медленно очертил взглядом круг слева направо. Вам никогда не приходило в голову, что Земля действительно круглая? Когда я в детстве впервые оказался на берегу моря, я просто физически ощутил, что горизонт похож на закругляющийся край огромного блюда.
С черного неба стремительно срывались звезды - за четверть часа я насчитал девять штук - и западали за изогнутую чашу горизонта. Воздух становился прохладным, и как-то само собой получилось, что я, стащив в кучу несколько блоков спресованной соломы, разбросанных комбайном по полю, устроил себе нечто вроде бункера. Солома еще хранила тепло августовского дня, и, согревшись, я уснул. Мне снилось, что я бегу по острому гребню волны, протянувшейся через все море. И море было не море, а пшеничное поле...
Кто-то стянул с меня куртку. Не соображая еще до конца, где нахожусь и что присходит, я выругался и рванул куртку к себе. Уже светало, и мне не стоило труда разглядеть круглую стриженую голову с огненно-рыжими волосами. Человек стоял на коленях и прижимал к губам палец. У него были блеклые голубые глаза. Он вполголоса заговорил, несколько раз повторив "Ромыния" и указав на себя: "Дан". Критически оглядев мои сверкающие светлые брюки, потрепал рукой свое черное одеяние: "Нуаре!" - и выдал длинную тираду. С грехом пополам я понял, что он пытался мне втолковать: передвигаться можно только по ночам, светлая одежда бросается в глаза. Помолчав какое-то время, румын встал, махнул мне на прощание и побежал, пригнувшись, - так, как, по моим представлениям, передвигаются солдаты на войне. Его плоская, прижатая к земле силой страха черная фигурка, растворившаяся тенью в золоте пшеничного поля, стала для меня невыносимым символом бегства. Как далеко он так уйдет, подумал я с тоской.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Вечный жид»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Вечный жид» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Вечный жид» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.