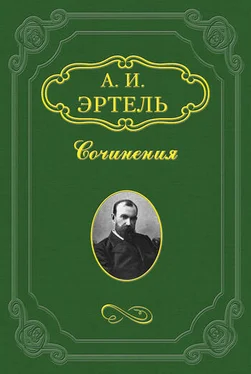но вместе с этим, представляя в нашем современном понятии «красоту» красоту тонких нервных ощущений, – все это составляет неотъемлемую принадлежность культуры. И не я, разумеется, отрекусь от этой «принадлежности», от этих благоухающих романтических цветов, которых, конечно, потомки наши не увидят и будут тем и счастливы и несчастливы… И он опять мечтательно поглядел на Любу.
А Люба недвижимо стояла у колонны и смотрела вдаль, вся озаренная пламенеющим закатом. Дума ли какая обняла ее молодую душу, вставали ли пред нею неведомые нам перспективы, – не знаю. Но чутко замерла она в каком-то томительном ожидании, пронизывая пространство внимательно-сосредоточенным взглядом. Полураскрытые губы, как будто воспаленные, как будто жаждущие какой-то живительной, освежающей струи; горделиво приподнятая головка, вокруг которой грациозно обвились темно-русые косы; бронзовая неподвижность смелого и строгого профиля, – все в ней напоминало одну – из тех античных статуй, о которых с таким благородным пафосом трактовал Сергий Львович. И разве что тихо и неровно волнующаяся грудь девушки, с едва заметными очертаниями, да ее почти детские, немного даже угловатые плечи, да тоска в ее напряженном взгляде, тоска, так не свойственная творениям «уравновешенной» Эллады, – нарушали это сходство и портили иллюзию.
Почувствовав на себе упорный взгляд Карамышева, она обернулась, вздохнула глубоко, причем крепкий румянец охватил ее щеки, и лениво подошла к нам. Кротко уселась она у ног Инны Юрьевны и понемногу вступила в разговор. Она тоже любит литературу, но Гете ей не нравится, он ей кажется холодным, себялюбивым стариком;
Гейне же… О, Гейне она боготворит!.. Но зачем Сергий Львович обходит ту сторону его поэзии, где он исключительно только ратует за несчастного, за обделенного судьбою, за обиженного, вот как этот смешной, но милый Исаия Назарыч, как эти бедняки там, в своих гнилых жилищах (она указала в ту сторону, где едва виднелась деревня). Разве это «нездоровая» поэзия?.. Ведь помнит же, вероятно, Сергий Львович то место, где поэт в каком-то безотрадном отчаянии восклицает:
Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?
Кто виной? Иль силе правды
На земле не все доступно?.. {18} 18 «Отчего под ношей крестной» и т. д. – вторая и часть третьей строф стихотворения Гейне «Брось свои иносказанья» («Laß die heilgen Parabolen») в переводе М. Л. Михайлова, русского революционного деятеля, писателя и переводчика, принадлежавшего к лагерю революционных демократов, возглавлявшемуся Н. Г. Чернышевским. Из зарубежных поэтов Гейне был самым любимым поэтом Михайлова: он перевел более 140 стихотворений Гейне, и переводил в первую очередь произведения поэта, обличающие социальную несправедливость, отмеченные резкой критикой буржуазного общества. Перевод Михайлова стихотворения Гейне «Брось свои иносказанья» печатался в искаженном цензурой виде. Эртель цитирует это стихотворение Гейне по изданию Гербеля 1862 года, где строки 9 и 10 были напечатаны так: Кто виной? Иль силе правды На земле не все доступно?.. В советских изданиях М. Михайлова эти строки восстановлены в его подлинном переводе: Кто виной? иль воле бога На земле не все доступно?..
и разве это «нездоровая» поэзия?.. Эти-то горькие вопли! Эти-то стоны сердца, переполненного скорбью!
Голосок Любы, робко и наивно напряженный, плохо владел декламацией, но, несмотря на то, впечатление от этой декламации получилось трогательное. Дело в том, что всю свою душу покладала странная девушка в эти стихи, и они в ее устах походили именно на «вопли горькие и стоны сердца, переполненного скорбью»… И опять возвратилась к участи внуков Исаии Назарыча. Мне кажется, что сцена за обедом, где самый этот Исаия Назарыч, благодаря ей, был выставлен в несколько смешном виде, не давала ей покоя. И в этом Карамышев оказал ей услугу. С деликатною мягкостью определив вышеприведенные мотивы гейневской поэзии мотивами рассудочными, и, следовательно, истинному искусству не присущими, и мимоходом заметив, что состояние «бедняков в гнилых жилищах» далеко не так тяжко, как кажется, ибо они и не подозревают о том «требовательном» аршине, которым мы измеряем счастье, он перешел к вопросу об «этих несчастных детях» и дал слово Любе, что устроит их судьбу. По его словам, у него была возможность дать им казенное воспитание, дочь же Исаии Назарыча поместить кастеляншей в одно, тоже «казенное» заведение. Надо было видеть радость Любы… Подарив жениха обворожительной улыбкой, – от чего тот, несмотря на всю свою олимпийскую сдержанность, вспыхнул как мальчик, – она, вместе с тем, вся расцвела и как бы преобразилась. Наступила новая, еще незнакомая мне, полоса в состоянии ее духа. Внезапно сделалась она ровна и любезна. Инна Юрьевна теперь могла бы гордиться ею: манеры ее приобрели ту безукоризненность и мягкость, соединенную с солидностью, о которой так жадно мечтают яростные представительницы «хорошего тона». Образ гордой и непреклонной девушки, с вечной тревогой в глазах и движениях, исчез бесследно, и пред нами болтала, – правда, сдержанно, но все-таки болтала, – очень «приличная», очень «воспитанная» великосветская девица.
Читать дальше