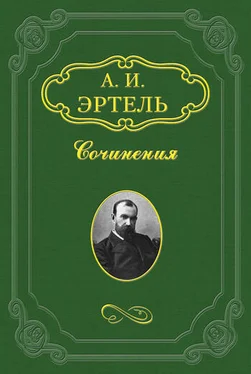Ну, правда, – продолжал он, снова впадая в добродушный тон, – много есть и балуются, особливо молодые парни… Есть такие – стащит что попало, да в кабак… У нас, летось, одного мальчика осудили – в церкву залез… Ну, это, я так полагаю, от кабатчиков больше – сомущают… А малый молодой, пожить-то хочется, ну и липнет, ровно муха к меду… Эх, грехи, грехи!
– Что же это у вас земельки-то обмалковато? – перебил ходока сторож.
– Да мы встарину-то лесом владали – Будиловским бором… Без мала две тыщи десятин было… Да лес-то тот у нас казна отбила.
– Как же так? – заинтересовался сторож.
– То-то все простота… Ишь, ни плантов, ни документов нетути: лет, може, шестьдесят тому брали их в суд, они там и сгори, – в те поры вся архива сгорела… А лес-то был нам закреплен царицей Екатериной – грамота от ней была: владать нам веки-вешные Будиловским бором…
– Что ж, вы хлопотали?
– Как же не хлопотать!.. Я разов пяток в Питере-то побывал, все попусту!.. Тысячи три только своих приложили… Вконец разорились… Знамо, казна… Кабы другой кто захватил, глядишь и взяло бы наше… А с казной – что поделаешь! – Ходок сокрушительно вздохнул. – Теперь один конец: новые места… А то хоть ложись да помирай… Мир так и присудил: коли я облюбую землю, дворов тридцать сразу переселить, а остальных года через два…
– Кому ж ваша-то земля останется?
Ходок пренебрежительно махнул рукой.
– Пускай кто хочет берет… Толку-то в ней немного – почитай сто лет пашется без навоза… Може, купец какой засядет да под степь пустит, гурты отгуливать… Пускай уж разводятся, видно их, толстопузых, царство пришло…
В тоне ходока задрожали злобные нотки…
Говор затих. Сторож все покуривал трубочку и поплевывал. Ходок вздыхал и тяжело ворочался в глубине полатей.
– Что-то отец Афанасий нейдет, – пора бы и заутреню начинать? заговорил сторож.
Ходок ответил ему что-то, и опять сдержанный говор послышался с полатей. Но я уж не вслушивался в этот говор: дрема одолела меня…
Когда я проснулся, в оконце, густо запушенное морозом, тускло брезжил розовый рассвет. Ходок стоял среди избы и, благоговейно кладя поклоны, молился.
«Господи, владыко живота моего, – разносилось в полусумраке сторожки, – духа праздности, уныния, любоначалия, празднословия не даждь ми… духа же целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви даруй ми, рабу твоему… Ей, господи, царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего…»
Я с любопытством оглянул молящегося. То был высокий, сгорбленный старик с огромной лысой головою, с бородою вплоть до пояса… Лицо было крайне простое и добродушное; в тихих голубых глазах светилась какая-то трогательная, детская наивность…
На лавке, прикорнув к какой-то кадушке, совсем одетый, спал мальчик лет двенадцати; на его белокурой кудрявой головке, на его полуоткрытом румяном рте почивало то же добродушие, та же беззаветная наивность, что поражала так в лице ходока. Это был его внучек, с которым он ехал до станции и едва не замерз.
В сторожку стали набираться говельщики. Поп что-то запоздал: к заутрени заблаговестили, когда уж я выехал из Яблонца.
На дворе совершенно распогодилось. Ни одно облачко не застилало синего неба. Широкое сугробистое поле так и алело под лучами только что поднявшегося солнца. Крепко морозило. Отдохнувшие лошади, отфыркиваясь и прядая ушами, неслись как ветер. Колокольчики певуче будили степную тишь вперемежку с торжественными звуками яблоновского колокола. Откуда-то издалека еще доносился колокольный гул… Даль сверкала и сливалась с сверкающим небом… Чуть видно искрился крест на какой-то церкви… Позади нас, за Яблонцем, в сторону Битюка, чернелся лес и опять искрились два-три креста… А за лесом тонуло в алых лучах Красноярье, раскинутое на горе, синел Тамлык, до изб которого не добрались еще солнечные лучи, успев только зарумянить крутые столбы дыма, прихотливо поднимавшегося из труб…
Яков похлопывал рукавицами и весело покрикивал на лошадей. Григорий отстал и не спеша трусил на своей косматой лошаденке.
По-черному. – В избах, топившихся «по-черному», без трубы, дым стлался под потолком и выходил через дверь.
«И приговор ему дали?» – мирской приговор, то есть постановление мира, общества.
«Да все воля эта…» – «Воля», то есть крестьянская реформа 1861 года, была проведена всецело в интересах помещиков.
Читать дальше