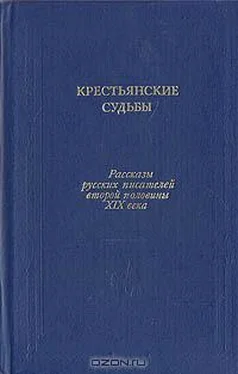Очевидно, выбитый изъ своего обычнаго положенія, съ которымъ онъ сросся всѣмъ существомъ своимъ, онъ терялся, становился человѣкомъ-болваномъ, хворалъ всею душой, былъ никуда не годенъ, дѣлался самъ не свой. Душа и сердце Гаврилы были зарыты въ землю. Онъ походилъ на растеніе, которое неразрывно соединено съ землей и, вырванное, засыхаетъ и чахнетъ, годное только на съѣденіе скоту. Но было бы ошибкой сказать, что его отношенія къ землѣ носятъ на себѣ слѣды рабства. Самый яркій признакъ рабства — это неволя; между тѣмъ, у Гаврилы и ему подобныхъ душа и сердце сознательно были зарыты въ землю, составлявшую неразрывную часть его самого.
Болѣе двадцати лѣтъ онъ пахалъ, никогда ничего не получая, кромѣ нечеловѣческой усталости, болѣе двадцати лѣтъ сѣялъ, собирая плоды въ видѣ неизмѣнной березовой каши, всю жизнь мечталъ, какъ бы еще больше вспахать и засѣять, и, собирая каждогодно, вмѣсто настоящихъ плодовъ, березовую кашу, приходилъ въ отчаяніе, но ни разу не пришла ему въ голову мысль, что земля — его врагъ, что онъ долженъ ее бросить и бѣжать безъ оглядки на поиски другихъ занятій. Гаврило, послѣ всѣхъ бѣдъ, какія приносила ему земля, сдѣлался только жаднѣе — вотъ и все.
Онъ желалъ больше, все больше земли, чтобы она у него была спереди и сзади, по бокамъ и подъ ногами, чтобы онъ заваленъ былъ, окруженъ ею со всѣхъ сторонъ, чтобы, куда онъ ни взглянетъ, все бы виднѣлась она. Онъ не могъ равнодушно слушать извѣстнаго рода разсказы, которые иногда дѣлалъ отъ нечего дѣлать его зять: разинетъ ротъ, засверкаетъ глазами и замретъ.
— Слыхалъ я, что тамъ сорокъ десятинъ на душу, — равнодушно говорилъ зять, разсказывая про губернію, находящуюся въ отдаленныхъ мѣстахъ.
— На душу? — спрашиваетъ Гаврило съ начинающеюся дрожью въ голосѣ.
— А то какже! Тамъ, братъ, или ты сейчасъ изъ дому и ступай на всѣ четыре стороны, куда хошь, на тридцать-ли, на сорокъ-ли верстъ отъ своей деревни, и чтобы кто тебя остановилъ: стой, молъ, куда лѣзешь въ чужія мѣста? — тамъ этого нѣтъ. Хошь ты цѣлый день или, а до конца краю своей земли не достигнешь. Непроходимыя мѣста!
— Ужь будто… чай, враки?
— Ну, вотъ, стану я врать. Я самъ видалъ человѣка съ тѣхъ мѣстовъ въ городѣ, своими глазами, какъ вотъ сейчасъ тебя; пріѣхалъ бумаги справить. Онъ мнѣ все и разсказалъ. Да и видно сразу по рожѣ, что мужикъ не нашъ, то-есть, прямо сказать, какъ передъ Богомъ, даже и не крестьянинъ, а шутъ его знаетъ, какой такой человѣкъ, какого роду: настоящая туша, пузо жирное, толстомордый, словно баринъ! Гляжу я это на него и думаю: есть же, молъ, такіе мужички на свѣтѣ!… Да ежели эдакій верзила дастъ нашему жителю щелчка — Богу душу отдастъ, потому что человѣкъ сытый, кормленный, хлѣбъ ѣстъ бѣлый, убоину жретъ вволю, а тутъ сидитъ нашъ-то какъ куликъ на болотѣ и только думаетъ, какъ бы не помереть отъ нужды! Такъ вотъ — гляжу я на него и думаю. «А что, говорю, Степанъ Яковличъ, много въ вашихъ мѣстахъ угодья?» — «Угодья, говоритъ, у насъ, слава Богу, довольно». — «А какъ, говорю, къ примѣру?» — «Да десятинъ сорокъ, што-ли…» — «Стало быть, пропитаться вполнѣ можно?». Смѣется!
— Такъ и сказалъ: сорокъ десятинъ? — спрашиваетъ Гаврило уже совершенно измѣнившимся голосомъ.
— Сорокъ-ли, пятдесятъ ли, тамъ этого не разбираютъ, потому что прямо сказать — конца краю нѣтъ.
Послѣ такого разговора Гаврило выглядитъ нѣкоторое время какъ бы помѣшаннымъ; такая въ немъ разжигается жадность, что онъ и словъ больше не въ состояніи подыскать. Вдругъ ему приходитъ на память настоящій его земляной надѣлъ, ничтожество котораго теперь ему ярко до очевидности, и онъ приходитъ въ отчаянную апатію. Слово «сорокъ» рѣжетъ его до нестерпимой боли, и въ немъ моментально выступаютъ самыя мрачныя чувства: зависть, ненасытность и отвращеніе къ своей жизни. Гаврило просто боялся вести такіе разговоры, потому что они, разжигая его преобладающую страсть, поселяли въ немъ страшное безпокойство.
— Безпремѣнно вретъ онъ! — успокоивалъ себя Гаврило, приписывая зятю способности безпутнаго лгуна.
Сама жизнь помогала ему успокоиваться, ежедневно засасывая его въ тину пустыхъ заботъ и не давая времени одуматься и размечтаться. Въ этомъ, пожалуй, и заключается разгадка того обстоятельства, что, никогда не получая никакихъ плодовъ, онъ продолжалъ пахать и сѣять, и все жаждалъ нахватать больше и больше десятинъ на свою шею, подъ какими угодно условіями. Каждый годъ это ему болѣе или менѣе удавалось и каждый годъ у него было по горло возни. Послѣ этого понятенъ тотъ испугъ и растерянность, когда онъ получилъ письмо отъ сына. Его положеніе въ самомъ дѣлѣ было отчаянное.
Читать дальше