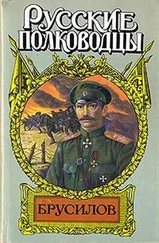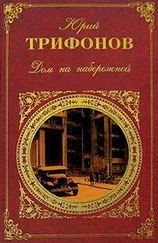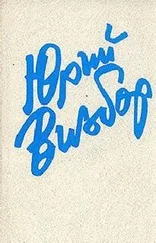— Постой, побежим вместе…
Она видит его лицо — смеющееся детское лицо, белые зубы, стриженную голову.
— Вот,— говорит она,— возьми соломинку, будем пускать мыльные пузыри. Хочешь?..
Они садятся на траву — она и Халил.
Между ними блюдечко с мыльной пеной. Они наклоняются, поочередно надувают щеки — на конце соломинок растут радужные шары.
Отрываясь, они несутся вверх, танцуя, плывут к солнцу, пламенеют, переливаясь всеми цветами радуги, исчезают в безбрежной сини…
— Боже,— говорит Милочка, не находя больше слов.
Ее самое подымает, несет прилив бесконечной, легкой радости…
Она не чувствует своего тела — только солнце, запахи, небо… прозрачный, льющийся всеми красками купол…
— Милочка, родная, дорогая моя Милочка,— говорит Ланская и целует девушку в зарумянившиеся от сна щеки, в глаза, губы, платок,— как это ты проспала всю ночь, сидя на подоконнике? А я только солнце встало — к тебе. Знала, что ты волнуешься.
Милочка смотрит на Зинаиду Петровну, ищет в ее глазах ответ и находит.
— Все хорошо? Все благополучно? Да?
И тотчас же замечает, как осунулось лицо подруги, какие синие тени под глазами, как прозрачен лоб, тронутый на висках мертвенной желтизной.
— Зина,— говорит она,— Зиночка. Тебе очень трудно. Я знаю…
Ланская припадает к ее коленям, зарывается лицом в платье и молчит — слез уж нет больше.
— Я хотела позвать тебя тогда, думала остановить. Зиночка, подыми голову. Это пройдет. Я знаю.
Зинаида Петровна не откликается, потом быстро встает, выпрямляется и говорит спокойно и деловито:
— Пустяки. Конечно, это пройдет. И не думай, что мне тяжело было все это проделать. На этот раз я продала себя дороже, чем стою. Сегодня Халил будет свободен. Я очень рада. И не думай, пожалуйста, что это с моей стороны жертва. Ничего подобного. В конце концов, мне все равно.
— Как — все равно?
Милочка испуганно и недоуменно взглядывает на Ланскую.
— Ну да, ничего исключительного в этом не было. Я пила, нюхала кокаин — вот и все. Ты не понимаешь.
— Я понимаю одно — ты совершила то, что не всякая любящая женщина могла бы сделать ради любимого.
— И, наверное, не сделала бы,— усмехаясь, отвечает Ланская и садится рядом с Милочкой, поправляет растрепавшиеся волосы,— а я сделала, потому что я и не любящая и не спасала любимого. Сейчас я это знаю лучше, чем когда-либо. Я не люблю Халила.
Она замолкает и сидит тихо, смотрит вперед себя — за крышу сарая, на розовеющее двугорье Казбека.
— Вот почему я была себе так противна. Теперь это прошло, но изменить я ничего не могу. Ничего. Я уеду отсюда, но не в горы. Дарья Ивановна нагадала правду. Как только выпустят Халила — я уеду. Здесь мне нечего оставаться.
Лицо ее заостряется, глаза смотрят жестко.
— С этим ничего не поделаешь,— говорит она,— это сильнее меня. Напрасно только я упиралась и валяла комедию. Он меня знал лучше.
По щеке ее скользит солнечный луч, но выражение терпкой упрямой мысли не сходит с ее лица.
Милочка не может поверить ей. Нет. Разве в такой день можно так думать? Все это от бессонной ночи, кокаина — оттуда. И она подвигается ближе к Зинаиде Петровне, обнимает ее за плечи и говорит взволнованно и звонко:
— Ах, Зиночка, ты сама не знаешь, как изумительна жизнь и как нужно, как важно жить сейчас, завоевывать жизнь! Разве когда-нибудь раньше мы могли жить так напряженно, преодолевать столько трудностей и так надеяться и верить?
Солнечные лучи ударяют ей в глаза. На платке росяной бисер. Весь сад покрыт росой. За зеленой крышей сарая четко, как никогда, пламенеет снежный Казбек. Милочка спускает затекшие ноги в сад, ладонями прикрывает щекочущие веки и выпрямляет грудь. Сердце, как и во сне, бьется радостно и шибко. Щеки пылают. Она прыгает наземь. Ей хочется двигаться, смеяться, петь. Так необычайно осеннее утро.
Калитка скрипит на блоке и с сухим треском захлопывается снова. В тишине этот стук особенно резок.
Милочка делает шаг и останавливается — сердце ее бьется шибко. Перед нею Кирим.
— Ты ко мне?
Он подходит к ней вплотную и говорит тихо и медленно:
— К тебе. Передай, кому знаешь, сегодня ночью убили Бека за Редантом. Я откопал. Хоронить буду. Он мне — кунак.
Милочка смотрит на Кирима, оцепенев, ясно слышит каждое его слово, но не понимает — растерянная улыбка остановилась на ее лице — и, едва шевеля немеющими губами, она бормочет:
— Убит Халил? Расстрелян? Да?
— Да,— все тем же бесстрастным голосом отвечает старик,— я сам видел. И кто стрелял знаю — буду помнить.
Читать дальше