— Конечно, тогда не откажу, — сказал Вальтер. — Где были и что видели? — спросил он после небольшого молчания.
Рулев рассказал ему свою поездку, обрисовал и более выдающиеся личности, какие встречал, но говорил о всем этом так безразлично, что его можно было считать и промышленником, и ученым, изведывающим плохо знакомую землю, и просто привыкшим к бродячей жизни человеком.
Мальчик с распущенным змеем уселся на берегу реки. Внизу текла гладкая, как зеркало, похолодевшая река; змей тихо качался в вышине, колебля своими красными, синими и белыми лентами; дышалось над рекой приятно, свежо и легко, а грудь мальчика точно уставала и от этого чистого воздуха.
— Ну, умрет, — заговорил Вальтер. — Что мне в нем? Знаю я его не много дней, привыкнуть не успел, а ведь жаль.
— Человека жаль, — заметил равнодушно Рулев.
— Да, — повторил Вальтер. — На счастливую жизнь он имел такое же право, как вы или я. А ведь это не один погибающий ребенок.
Рулев засмеялся.
— Их гибнет по крайней мере вчетверо больше, чем остается в живых, — отвечал он на вопросительный взгляд Вальтера:
— Разве это так и должно быть?
— Конечно, нет. Но я полагаю, что нам с вами не стоит и говорить об этом: зло мы видим и делаем, что можем.
— Отчего мы так мало можем! — горько проговорил Вальтер.
Быстро темнело; ветер стихал; река бежала точно тише; камыш точно засыпал, а вдали за рекой, на утесе, развели огонь, и медленно опускалось и поднималось его пламя. Города не стало видно, и не было слышно кругом человеческого голоса, только перелетали птицы, и вдали слышался гул из города, точно быстрый топот лошадей в степи. Пишу эту картину не ради ее самой, а потому, что Рулев и Вальтер были люди, в которых ночь в поле, в степи или лесу, на берегу реки, с свободно веющим ветром — шевелила в памяти много разных воспоминаний и делала беседу друзей более интимною.
Рулев заговорил откровеннее.
— Отчего, — сказал он, повернувшись к Вальтеру: — вы не русский, а любите нашего простолюдина, как можно любить человека, только сжившись с ним, да и горе его разузнав основательно.
— А оттого, — сказал он тихо, — что с тех пор, как я, начал думать о людях, я жил только среди этого народа. Землю я видал только русскую, песни слышал только русские и другой жизни не знаю.
Вальтер подумал немного и опять продолжал:
— Горе его я тоже знаю, но сил избавиться от этого горя пока не вижу — это-то и горько… Я, Степан Никитич, полжизни даром шатался, а так, без дела, тяжело жить… Какое же дело?.. Ну, ребенка вот накормил… Что же дальше?
— Сил нет, так создавайте их, — заметил Рулев, — хоть жить учите…
— Приходится и жить учить…
— Да, наконец, и силы есть, если на то пошло, — прибавил Рулев, вставая, бросил папироску и отправился к мальчику. Тот медленно сматывал змей, прислушиваясь к его трещанью.
Вальтер думал, как действовать дальше, чтобы Рулев лучше узнал его и отбросил всякие намеки и околичности. Обратно поехали в лодке: Рулев вызвался гресть, и лодка быстро пошла по тихой и темной реке.
— Вы здесь ни с кем не знакомы? — спросил Вальтер,
— Хорошо ни с кем почти.
— Хотите вы познакомиться с одной умной девушкой? — она здесь учительницей.
— Познакомьте, — сказал лаконически Рулев, ловко и весело работая веслами.
— Она моя невеста, — прибавил Вальтер, принимаясь за руль.
— Познакомьте, — повторил Рулев.
Мальчик, улегшийся на дне лодки, долго присматривался к блещущим при свете месяца веслам и потом запел в такт гребли какую-то монотонную песню.
Вальтер познакомил Рулева с учительницей Тиховой. Вот и еще личность, с которой Рулев несколько сошелся и имел на нее влияние. Тихова действительно, как говорил Вальтер, была умная и добрая девушка. Как и большая часть наших женщин, она мало видела, мало испытала и, говоря короче, была создана не полною жизнью ее времени, а жизнью тесного кружка, в котором ей приходилось действовать. Созданная этим тесным кружком, она, естественно, не могла иметь широкого, светлого взгляда на жизнь, хотя и в ней бессознательно выражались иногда еще не совсем уясненные потребности современного человека.
Тихова была умная и работящая девушка. Она ребенком еще постоянно работала с матерью. Мать пела за работой кольцовские песни: скоро и дочь, ради этих песен, выучилась читать, а потом и мать и дочь распевали вместе. Был тогда у девочки брат, теперь где-то убитый. С братом этим она ходила по утрам к родственнице, учившей их тому немногому, что она сама знала. На улицах брат, — на том основании, что он мальчик, а она девочка и ходила очень тихо, — сталкивал ее в канавы, прогонял прочь, и бедная девочка горько плакала, не отставая все-таки от брата из страха заблудиться. Она была в таком же положении, как собачонка, которую на улице бьет капризный ребенок, которая визжит, страдает, но опять-таки бежит за этим ребенком. Жаловаться матери девочка не хотела и кончила тем, что перестала любить брата и привязалась к одной только матери. В вечном разговоре с матерью за работой в тихой комнате, где перед образом спасителя постоянно горела лампадка, девушка, взросшая на поэзии, под влиянием горячей любви и нежности, сделалась религиозной.
Читать дальше
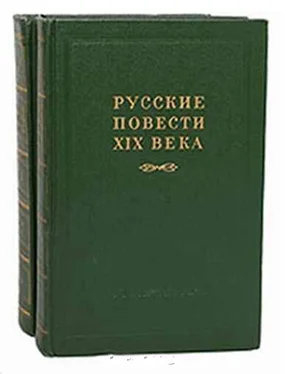


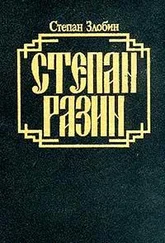





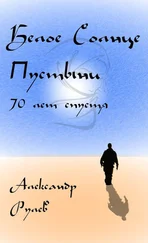


![Александр Рулев - Зона притяжения [litres самиздат]](/books/436943/aleksandr-rulev-zona-prityazheniya-litres-samizdat-thumb.webp)