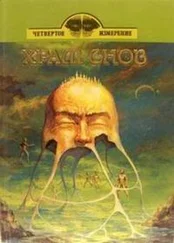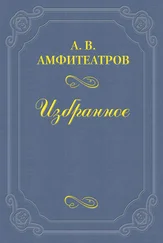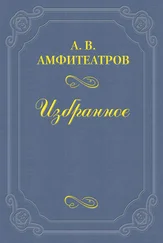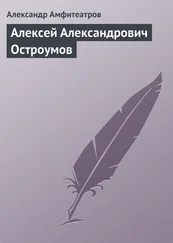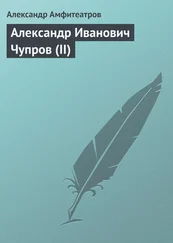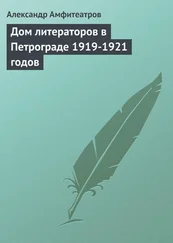В самом деле, NN, как истый фанатик, был совершенно равнодушен к женщинам; это доходило в нем до наивности; сам весь отдавшись одной идее, он не понимал и в других иных стремлений, желаний и слабостей.
Опишу вам и других моих товарок. Одна — чахоточная девушка из купеческого звания — пришла в колонию потому, что «все равно, где ни ждать смерти». Ей было лет под тридцать. Это было существо молчаливое, кроткое, спокойное и с огромной силой воли. Она имела решимость отказать любимому жениху по тому соображению, что, веря в наследственность своей болезни, не считала себя вправе иметь потомство. В колонию она поступила, как другие поступают в монастырь. Она приехала к нам глядя на осень и, протянув кое-как зиму, умерла с первыми вешними водами.
Другая — совсем молоденькая — была из типа «талантливых неудачниц»: плохая копия с Марии Башкирцевой. Очень хорошенький, черноглазый, вертлявый чертенок с оливковым лицом, лихорадочными глазами в столовую ложку величиной, беспорядочной насмешливой и капризной речью, смешными ужимками и двумя непременными истериками в день… Готовилась в актрисы, дебютировала, провалилась… сперва хватила нашатырю на гривенник, а потом — когда ее выходили — сама не зная зачем, попала к нам. Были у нас гостьи, временные и приходящие. Помню одну вдову-купчиху из Москвы: красивую, могучую женщину с спокойною речью и степенными манерами; ей у нас не понравилось, она ушла «на волю» после недели житья в колонии и очень звала с собою и меня, и оливковую Катю.
— Вам замуж надо, — говорила она, — эй, смотрите: плохо будет. Раскаетесь, да поздно. Вам головы не сносить: скверно кончите.
Помню одну польку из Киева. Что эту к нам занесло — решительно не понимаю. Она повертелась у нас дня два — в полном недоумении: что мы за люди? куда это она попала? Наконец, надо полагать, решила, что мы дураки, и не только жить с нами, но и думать-то о нас не стоит.
— О, душко, як же у вас тенксно, — сказала она мне вечером во вторник, а утром в среду я узнала, что нашей гостьи уже и след простыл.
Колония очень гордилась моею приспособленностью к крестьянскому быту. NN писал мне восторженные письма: он видел во мне как бы воплощение своей идеи, доказательство, что она не миф, не бред, что привить культурную натуру к почве и ручному труду вовсе не такая тяжелая задача, как думают… До какой степени все это меня разжигало и пришпоривало, вы и вообразить не можете. Я не шутя возомнила себя в некотором роде звеном, должным связать в одно целое великую цепь между барином и мужиком.
В эту-то пору и выплыл на свет вопрос о Василии Павловиче Голицыне и моем с ним законном браке.
Васька Голицын был круглый бобыль: двор у него кое-какой был, но во дворе ни кошки, ни плошки, а только мальчонка лет семи от первой жены, которую Василий похоронил года три назад. От земли он отбился, а жил — чем Бог пошлет: мастачил на все руки — и кузнец, и столяр, и слесарь, и медник, и лудильщик. Способностями природа не обидела, но в отместку наградила необузданною ленью, страстью к выпивке и стремлением к трактирной культуре, к «спинжаку», как окрестил это Глеб Членский. Он презирал серое мужичье, водился с волостным писарем и сельским учителем — весьма франтоватым и недалеким по уму юношей из купчиков, бегающих от воинской повинности. Тогда это еще практиковалось. К нам он заходил — «для образованного общества». Мужчины Ваську недолюбливали.
— Это культуртрегер кабацкого пошиба, — горячился Сереженька, — жилетка, гармоника, дутые сапоги, сладкая водка, «барышня, дозвольте разделить компанию»… вот это что! Дайте ему деньги — он сейчас либо кабак откроет, либо станет торговать землей. В нем кулак сидит, зерно кулаческое.
Мы, женщины, отнеслись к Василию с большею терпимостью. Во-первых, с ним было нескучно, а когда он старался быть любезным, то оказывался совсем комиком: точно медведь пытается протанцевать качучу. Во-вторых, он выглядел все же почище и более отесанным, чем серая масса, окружавшая нас; да — что греха таить? — и некоторые из наших колонистов, в своем благом усердии уподобиться мужику, пересаливали в неряшестве и доходили до немалого свинства. Иногда это сильно надоедало, утомляло, раздражало, казалось актерством, рисовкою: люди кокетничали нечистоплотностью, как другие кокетничают «красой ногтей». Из себя Василий был молодец: большой, широкоплечий парень; зубы — как сахар, всегда оскаленные улыбкою. Наши мужчины находили эту улыбку фальшивою и неприятною.
Читать дальше